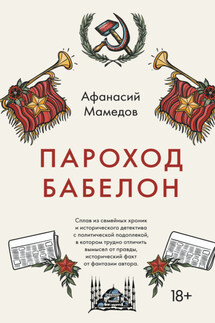Психология отношений межличностной значимости - страница 28
В. Н. Сорока-Росинский в своей работе «Школа Достоевского» дает характеристику различным педагогам, которые были уважаемы, любимы и, в конечном счете, авторитетны для шкидцев. При этом каждый по-своему и в своей сфере.
Вот как описывал В. Н. Сорока-Росинский метод преподавания учителя математики Д.: «Ученик у доски решает уравнение. Учитель на стуле благосклонно взирает на это. Ученик запнулся – на лице у учителя тревога. Ученик выпутывается из трудности и у учителя – улыбка успокоения. Но вот ученик вновь приостанавливается, начинает путаться все больше и больше – педагог вскакивает со стула и изгибается в позе тигра, готовящегося к прыжку. Ученик окончательно запутался и сделал грубую ошибку, и тогда учитель, схватившись одной рукой за голову, другую подняв вверх, трагически восклицает, обращаясь к классу: “Нет, вы посмотрите только, что пишет этот идиот!” А затем кидается к доске, вырывает у “идиота” мел и, пылая гневом и кроша мел, вскрывает ошибку, а затем, объяснив ученику какое преступление перед математикой совершил сей несчастный, возвращает ему мел, и ученик благополучно выкарабкивается из дебрей уравнения. А учитель, уже сидя на стуле в позе Геркулеса, отдыхающего от очередного подвига, расслабленно, но благосклонно улыбается своему питомцу, вполне сочувствуя его успеху». В. Н. Сорока-Росинский пишет, что другим учителям, присутствовавшим на уроках Д. было трудно удержаться от смеха. Да и сейчас сложно отнестись серьезно к подобной педагогической методе. Но результаты… Дадим опять слово заведующему шкидой: «Учитель оказался в состоянии, несмотря на все его выходки, добиться того, что математика стала для учеников любимым предметом. Никаких конфликтов у Д. с ними не было: он хорошо знал свое дело, всегда с увлечением преподавал, всегда был искренен и доброжелателен, прилагал все усилия, чтобы обучить своих питомцев, радовался вместе с ними их успехам, горевал вместе с ними при неудачах. И ребята ценили его».
Еще один портрет. Учительница немецкого языка Эа. В. Н. Сорока-Росинский пишет, что ее отличительной чертой была «тонкая способность сочувствия в прямом, этимологическом значении этого слова… то есть способность заражаться настроением другого человека – чувствовать его радость или непосредственно переживать его горе… Эа. быстро сходилась с ребятами и к каждому умела находить подход: шкидцы младшего отделения охотно распевали с ней под рояль детские немецкие песенки, а старшее отделение заслушивалось, когда она читала стихи Гейне… К ней во всех случаях обращались за помощью, за утешением, за перевязкой ранений».[44]
Итак, два педагога, две неординарные, яркие, непохожие одна на другую личности. Различно и отношение к ним ребят. Трудно представить, что именно к учителю Д. могли бы придти шкидцы для того, чтобы рассказать о возникшем между ними конфликте, а к Эа. обратились бы за помощью, если бы речь шла о какой-то взволновавшей их научной проблеме. Но оба учителя пользуются уважением одних и тех же ребят, оба в определенной степени для них авторитетны. При этом у каждого своя область влияния. По-видимому, именно такое взаимодополнение является значительно более важным условием успешности работы педагогического коллектива, чем даже самый высокий и «многоплановый» авторитет лишь одного учителя.