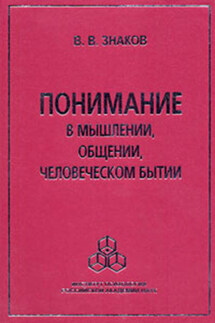Психология понимания. Проблемы и перспективы - страница 48
Очевидно, что в школе С.Л. Рубинштейна субъект рассматривается как саморазвивающийся человек, влияющий на собственную деятельность и другие виды активности. Другими словами, в определении критериев становления субъекта решающее значение приобретают внутренние условия формирования психики. Иначе определяют критерии субъекта психологи, причисляющие себя к последователям Л.С. Выготского. Для них решающим фактором онтогенеза субъекта является совместная деятельность, и чем больший вклад в нее вносит человек, тем в большей мере он проявляет себя как субъект: «Вместе с тем индивидуального субъекта мы можем определить по его неповторимому вкладу в совокупную (Д.Б. Эльконин), целостную деятельность, по степени участия ребенка и взрослого в ее «проектировании», построении и развитии. Это и является фундаментальным критерием саморазвития ребенка в качестве индивидуального субъекта» (Кудрявцев, Уразалиева, 2001, с. 18). И далее: «Итак, субъектоммы можем назвать того (неважно – ребенка или взрослого), кто осуществляет особые действия по развитию целостной деятельности. Субъект и есть та инстанция, на которой непосредственно разворачивается акт развития деятельности» (там же, 2001, с. 28).
С тем, что вклад в деятельность можно считать критерием субъекта, трудно согласиться не только потому, что, помимо деятельности, существуют и другие виды субъектной активности. Созерцание, переживание, проявление сознательной и бессознательной активности в поведении, формирование политической воли, рост духовности – все может использоваться в качестве аргументов для обоснования субъектной сущности людей. Не менее весомую причину указывает Н.В. Богданович: если субъект неразрывно связан с деятельностью, то он фактически выводится за пределы человека и «исчезает вместе с ее прекращением» (Богданович, 2004, с. 16).
Вместе с тем нельзя не признать, что субъектная сущность человека неразрывно связана с тем, что и как он делает. Однако мне представляются более оправданными попытки поисков признаков субъектности человека не в деятельности, имеющей сиюминутный, ограниченный определенными временными рамками характер. Более уместно в этом контексте использовать категорию «жизнедеятельности», отражающую общую тенденцию проявления каждым из нас разнообразных видов активности в течение жизни. «Субъектность обнаруживает себя в главной способности человека: способности превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, что позволяет ему быть (становиться) действительным субъектом (автором, хозяином, распорядителем) собственной жизни» (Слободчиков, 2002, с. 24). Таким образом, субъектность фактически представляет собой индивидуально-характерный способ бытия человека в мире.
Брушлинский хорошо понимал неправомерность, внутреннюю противоречивость научного подхода, связывающего сущностные характеристики субъекта только с деятельностью. В последние годы жизни он шел по пути расширения ценностно-смысловых контекстов, в которые включались классические психологические проблемы. Вступление на этот путь – результат ясного осознания невозможности объяснения содержания и смысла множества важнейших феноменов психологии человеческого бытия – нравственности, свободы, духовности – исключительно с деятельностных позиций. В обращении Андрея Владимировича к категориям такого рода проявилось его стремление выйти за узкие рамки категории