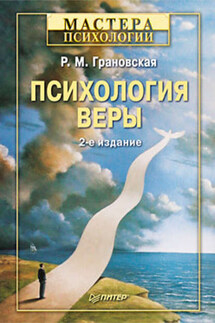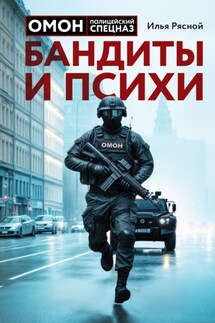Психология веры - страница 36
Ритуально ограничены и сексуальные контакты: для мужчин они допускалась только с женщиной той же касты или ниже (но не выше). Статус человека от смешанного брака, согласно Канону и традициям, ниже статуса члена даже самой презираемой касты. Поэтому дети от таких связей, исключенные из касты, обычно вынужденно переезжают в другой район и нередко принимают другую религию (ислам, христианство, буддизм). На старом месте с ними никто не будет иметь дела, поскольку тот, кто поможет им, тоже подлежит исключению из касты.
Брак считался непременной обязанностью, поскольку признавался религиозным актом. По представлениям индуизма, в зачатии человека участвуют отец, мать и гандхара как духовная сущность кого-то, кто уже страдал в этом мире. При этом душа гандхары переходит в тело другого организма, то есть новые существа получают души прежних живых существ, и дальнейшая судьба этих душ зависит от усилий потомков. Индуист не имел права оставаться холостым, так как брак необходим для рождения сына, на котором будет лежать обязанность за принесение поминальных жертв – жертвоприношения за предков до четвертого колена, то есть до правнука умершего. Если же у человека не было сына и некому было приносить поминальную жертву, он мог сделать свою дочь (по соглашению с ее мужем) путрикой, то есть как бы женой; тогда ее сын от мужа считался сыном и ее отца и мог приносить поминальные жертвы. Для женщин брачный обряд считался столь же непременным, как ритуал инициации для юноши. Вступление в брак было организовано достаточно просто. С этой целью использовалась формула: «Я даю». Это было словесное обещание выдать девушку замуж, которое считалось достаточным для того, чтобы считать ее замужней, а брак нерасторжимым. При этом покупка жены в Древней Индии была самым обычным явлением.
В индуизме считался важным ритуал подготовки человека к смерти. Умиравшего наставляли, о чем он должен думать в момент умирания. С этой целью ему помогали не уснуть, не впасть в обморочное или коматозное состояние. Обращали его внимание на то, что даже в бесчувственном теле мысль должна оставаться активной. Считалось, что для человека лучше, если в момент смерти он помнит свои прошлые деяния, думает о значительных и положительных вещах. Это важно, поскольку тот, кто в момент смерти вспоминает отвратительные действия, получит худшее материальное тело после смерти, так как именно ум и память переносят склонности умершего в следующую жизнь. Если в этот момент его ум перегружен материальными желаниями – он не сможет войти в духовное царство. За этими наставлениями крылось желание помочь умирающему расстаться с иллюзиями, накопленными в его сознании на основании земного опыта. Он должен был их осознать и расстаться с мыслями о земной жизни, представляющими ментальный осадок, семена кармы. Это вело к освобождению.
Воистину человек состоит из намерений.
Какие намерения имеет человек в этом мире, таким он становится, уйдя из жизни.
Кто, о каком бытии думает при оставлении своего тела, такого достигает без сомнений.
Кто в час кончины, освобождаясь от тела, Меня вспоминая, уходит, тот в Мою сущность идет, нет в этом сомнения.
Бхагават-Гита 8, 5–7
Прощание отца с сыном – тоже ритуал. Готовясь к смерти, отец призывает сына. Тот склоняется над ним, соединяя свои органы чувств с органами чувств отца, и садится лицом к нему. Отец должен сказать: «Да вложу я в тебя свои жизненные силы». Сын отвечает: «Я принимаю в себя твои жизненные силы». Затем, повернувшись направо, сын двигается к выходу, а отец произносит ему вслед: «Да пребывает в тебе слава, блеск божественного знания, почет». После этого, поглядев на отца через левое плечо и закрыв лицо ладонью или краем одежды, сын отвечает: «Да достигнешь ты небесных миров и исполнения желаний» (Кауш.-уп. 2; 15; 276, с. 16). Обратите внимание на форму прямой передачи и принятия сыном жизненной силы отца.