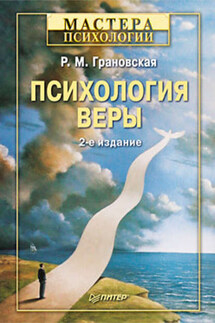Психология веры - страница 64
4. В то же время сострадание к врагам не входит в мораль зороастризма. Напротив, кто добр к злым (врагам), тот сам злой. Непримиримая борьба со злом – первейшая обязанность верующего. Однако провозглашенная любовь к людям нигде не выходит за пределы общества единоверцев.
Ритуалы и обряды
Мы поклоняемся фраваши (душам) всех людей, тех, что есть, и тех, что будут.
Ав. Яшт. 13, 57–63: 4
Главный ритуал. Поскольку источником тепла и света, как и жилищем бога, почиталось Солнце, то священный огонь возжигали на вершинах гор и холмов. Его поддерживали постоянно, чтобы он не угасал, когда Солнце заходит. Зороастр основал алтари, где священный огонь, как сошедший с неба, поддерживался жрецами, охранявшими его день и ночь, в течение тысяч лет. (Любопытно такое высказывание Зороастра: «Культ огня сплачивает массы, укрепляя единство народа».) Священный огонь воспринимался как свет и почитался как добро. При этом поклонялись не уничтожающему огню, а огню как свету, являющему себя как истина. Считалось, что в качестве чувственного образа добро есть свет, а персонифицировано оно в образе Ахура-Мазды. Со священным огнем обращались бережно, и приношения ему составляли основу ежедневных богослужений. Сжигать в нем мусор представлялось немыслимым. Приношения огню состояли из трех элементов: сухих чистых дров, благовоний из листьев и трав и небольшого количества животного жира. Благодаря приношению животного жира как бы продолжалась жизнь душ убиенных животных. Сознание кровного родства между человеком и животным отражено в богослужении:
Мы молимся нашим душам и душам домашних животных, которые кормят нас, и душам полезных диких животных.
Ав. Ясн. 39; 1:3
Храм. Вначале парсы не сооружали храмов, а строили алтари и совершали жертвы на высоком месте, после посвятительной молитвы. Из жертвенного животного маг раздавал все части молящимся, не оставляя никакой доли богам. Считалось, что божеству нужна душа жертвы и ничего больше. Но они клали в огонь сальник. Несколько позднее местом литургических церемоний стали служить храмы огня. В Авесте жрец называется атраван – то есть жрец огня. Самым священным местом храма являлась комната, где находился сам огонь. Она была расположена внутри здания и хорошо защищена со всех сторон, в особенности от проникновения света, то есть была совершенно темная. В ее центре, на квадратном камне, в металлическом сосуде, наполненном пеплом, горел священный огонь. Никакая человеческая рука не должна была касаться его, никакое человеческое дыхание – осквернять его. Поэтому жрецы носили перчатки на руках и повязки, закрывающие рот. Перемешивали священный огонь специальными щипцами или ложками. Этот огонь поддерживался постоянно и от него зажигался всякий новый огонь. Известны современные огни, горящие непрерывно более двух тысяч лет (38, с. 194).
В каждом из храмов горел священный огонь и хранились сосуды с жертвенным напитком (хаомой), который выпивался в процессе службы. Также там накапливали связки жертвенных ветвей (барсом), которые жрец держал в руке во время богослужения. Хаома и жертвенная трава использовались в храме для искупления ритуальных проступков. Перед огнем пели гимны богу. Геродот отмечал, что сооружать кумиры и статуи в этом учении не допускается, так как зороастрийцы не представляют себе богов человекоподобными. Геродот сообщает, что при совершении жертвоприношения маг запевает гимн и во время этих весьма длительных песнопений, иногда в течение часа, держит в руках пучок тонких ветвей тамариска. Для огня он кладет сухие поленья без коры, добавляет сверху жир и зажигает снизу, выливая на поленья масло. Не дует в него, но обмахивает. Того, кто дует в огонь или положит на него мертвое тело либо испражнится, – убивают. На голову маг надевает войлочную шапку, от которой по обеим сторонам опускаются покрывала, прикрывающие даже губы, чтобы дыхание не осквернило священный огонь (76, 1. с. 132).