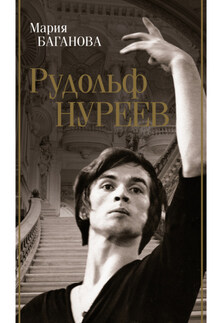Пушкин. Тайные страсти сукина сына - страница 22
– Ненадолго, видать хватало вашего раскаяния! – укоризненно заметил я.
– В этом вы правы, – покаянно согласился он. – Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не тяжелая болезнь, которая, остановила на время избранный мной образ жизни.
– А что была за болезнь? – деловито осведомился я.
– Ах, то и дело забываю, что передо мной лекарь! – воскликнул Пушкин. – Я вам, милостивый государь, толкую о прелестных дамах, о Хлое, о Лаисе, о жрицах наслаждения… Вы слушаете и скучаете. А стоило упомянуть о горячке – как тут же оживились! Я простудился, дожидаясь у дверей одной б…., которая не пускала меня в дождь к себе для того, чтобы не заразить своею болезнью. Избегнув одного, я приобрел другое – не лучшее. Гнилая горячка долго держала меня на грани жизни и смерти. Лейтон за меня не ручался. Родители мои были в отчаянии.
– Вы упомянули Лейтона? – заинтересовался я. – Яков Иванович – главный врач русского флота, лейб-медик монаршего двора, академик – врач сильный. И коли даже он не ручался за ваше выздоровление, значит дело было серьезно…
– Но он все же меня вытащил! – перебил меня Пушкин. – Лейтон тогда применил только начинавший входить в практику жаропонижающий метод – ванны со льдом – метод хоть и действенный, но очень опасный. Поправлялся я медленно и почти всю зиму не выходил из дому. Знаете, чувство выздоровления – одно из самых сладостных. Я писал тогда «Руслана и Людмилу», много читал, носил полосатый бухарский халат, а на обритой голове – ермолку. Не усидев дома, я явился в театр, прикрыв бритую голову париком. Но в нем было безбожно жарко, и, не стерпев, я принялся обмахиваться им, словно веером. Общество было скандализовано! – он принялся заразительно смеяться.
Я вторил ему, представив эту забавную сцену.
– Вскоре я стал почетным гражданином кулис, – с некоторой гордостью произнес Пушкин. – Пред началом оперы, трагедии, балета гулял по всем десяти рядам кресел, ходил по всем ногам, разговаривал со всеми знакомыми и незнакомыми. «Откуда ты?» – «От Семеновой, от Сосницкой, от Колесовой, от Истоминой». – «Как ты счастлив!» – «Сегодня она поет – она играет, она танцует – похлопаем ей – вызовем ее! она так мила! у ней такие глаза! такая ножка! такой талант!..» И вот, сговорившись, мы восхищались и хлопали часто тому, что восхищения и не заслуживало. Порой певец или певица, заслужившие любовь нашу, фальшиво дотягивали арию Боэльдье или della Maria. Знатоки примечали, любители чувствовали, но молчали из уважения к таланту. Не хочу здесь обвинять пылкую, ветреную молодость, знаю, что она требует снисходительности. Но можно ли полагаться на мнения таковых судей? Тогда на сцене еще блистала стареющая Семенова. На меня она действовала не столько своей величавой красотой, сколько обаянием таланта. Некоторое время я безуспешно приволакивался за нею, то есть почитал себя влюбленным без памяти. Я обыкновенно в таком случае пишу элегии, а ей посвятил критические заметки о русском театре. Писались ли они по вдохновению, природу которого вы пытаетесь разведать? Не знаю. Впрочем, записки эти я не закончил, бросил, подарив рукопись Екатерине Семеновне. Там были о ней восторженные строки, но единодержавная царица трагической сцены не соблазнилась, благоразумно предпочтя мне князя Гагарина. Ухаживая за нею, я снова схватил злую горячку, и снова любящие меня люди опасались за мою жизнь. Ох, только не заставляйте меня вспоминать подробности этой болезни! Вижу, вижу непритворный интерес в ваших глазах! Но, помилуйте, болезни – это очень скучно. Довольно с вас того, что я ускользнул от Эскулапа, худой, обритый – но живой…