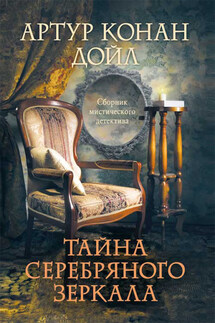Путешествие на край света: Галапагосы - страница 7
Наш самолетик больше походил на лист бумаги, который крутился и скользил вниз, преследуемый мощными воздушными потоками, что циркулируют в том ущелье и, честно сказать, я не думал, что у нас есть хоть какая-нибудь надежда выбраться оттуда.
Однако, почти у самой земли, Валверте прибавил обороты, выровнял нос самолета и, повернув налево, обогнув угол уступа, мы вылетели прямо к водопаду «Прыжок Ангела», который возник перед нами так близко, такой величественный, низвергающийся прямо с неба, и капли воды покрыли все стекло кабины. До сих пор точно не помню, как нам удалось набрать высоту и выбраться оттуда. Единственно, что помню – это чувство страха и одновременно… восторга, которые переполняли меня во время всех этих виражей, что больше напоминали «русские горки».
Когда мы уже оставили позади каньон и летели дальше, Вальверде улыбался, хотя и было заметно, как он слегка побледнел. Позже, все же, сознался, что тоже ощутил это странное чувство из смеси страха перед каньоном Ауянтепуи и одновременно притяжения к нему, и что он уже пролетал через каньон четыре раза, и был уверен, что когда-нибудь все-таки разобьется о его дно. Потом показал мне на небольшую площадку на расстоянии в пару километров, где виднелся скелет разбившегося там самолета.
– Этих каньон тоже приманил, – прокомментировал он, – и вот они – все погибли.
Крайне симптоматично, что в этих отдаленных, труднодоступных местах, где самолет оказывается порой единственным средством транспорта, почти у каждой взлетно-посадочной полосы, в начале или в конце, лежат куски разбившихся летательных аппаратов, и их не убирают то ли из-за лени, то ли оставляют в качестве предупреждения пилотам, что в какой-нибудь из дней и с ними может случиться подобное.
Когда Ауянтепуи остался у нас за плечами, Вальверде указал на какую-то точку на горизонте в юго-западном направлении.
– Вот там находится испанская миссия францисканцев, – сказал он. – Не хотели бы нанести им визит?
Идея пришлась мне по душе, и минут через двадцать мы приземлились на плато. Воздух здесь был прохладен и свеж. Невдалеке от того места, где мы сели, поднималось массивное здание из камня, рядом раскинулась небольшая индейская деревня, насчитывающая около тридцати домов: Кабанайен.
Как только мы вылезли из кабины, к нам подошли два монаха: святой отец Куитилиано де Зурита, возглавлявший эту миссию, и святой отец Мартин де Армельяна. Первый выглядел как старец – белая борода и добродушное, открытое лицо, в Венесуэле он жил уже тридцать два года, и все это время на пустынных землях Великой Саванны, и он признался нам, что в миру его звали Хулио Солорзано Перез, родом из Зуриты, из деревни Сантандер, что располагается невдалеке от Торрелавега.
Про второго не помню откуда он был родом, помню только, что любил читать, собрал целую книгу рассказов и легенд тех индейцев, которые жили при Миссии.
Эти индейцы, называвшие сами себя «пемонес», принадлежат к племенам аринготос, камаракотос и алекуна, хотя при посторонних предпочитают, чтобы их все-таки называли именно «пемонес». Люди они мирные, живут под защитой Миссии, занимаются тем, что выращивают рис, разводят скот и охотятся на ту дичь, какая в небольших количествах водится в тех широтах. Когда же я спросил падре Армельяна как и чем живут здесь миссионеры, он, не задумываясь и не моргнув, ответил:
– Исключительно благодаря чуду, сын мой.