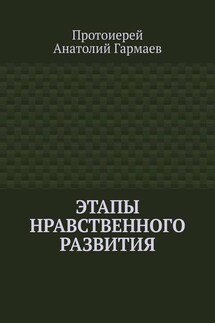Пути и ошибки новоначальных. Беседы в паломническом рейсе - страница 41
Сколько пришлось пережить различного сопротивления такому характеру трапез: стихия мира сего то врывалась в шутках, репликах и даже тостах совсем неподобающего содержания: пустого, пошлого, циничного или просто не имеющего никакого отношения к празднику; то проникала в виде мирских песен – эстрадных, бардовских, худонародных, которые были либо далеки от церковного праздника по содержанию, либо совсем не подходили настроению по мелодической линии, либо откровенно были противоположны христианскому характеру по смыслу, либо, еще хуже, решительно воцаряли в своем содержании греховный, страстный характер жизни. Стихия мира сего разверзалась в попытки бесчинного разгула и гуляния с криками, хохотом, сальными шутками, громкими разговорами, перекрывающими всех и вся, призывами, хоровыми скандированиями, разудалыми «многая лета».
Когда же все это удалось изгнать, дух мира сего отомстил училищной жизни унылостью и скукой на трапезах. Какой-то части братии и сестер оказалось нечем на них жить, тем более что и вино было сразу ограничено. Следуя традиции древнерусских общин, мы отказались от разлива вина по бокалам и пустили по кругу из рук в руки большую чашу – общую братину, из которой каждый может испить по одному-три глотка. При этом любой желающий, держа в руках братину, говорит слово. Слова можно произносить и без чаши в руках.
Водка на трапезах совершенно запрещена. Первое время некая часть братии устраивала после трапезы так называемые «добирания» алкоголя.
Прошло не менее пяти лет, прежде чем этот мирской обычай был изгнан из училища. На сегодня стремлений к пьяным разгулам в общине не существует.
Одновременно с этим ожила, открылась, поднялась и укрепилась традиция богохвалительного характера трапез. Она все более и более наполняется личными дарованиями участвующих в ней людей: даром слова или песней, умением подобрать стихи, прозу, от кого-то мудростью, радушием, а иные – простотой, духовной радостью. Эта традиция стала для нас «отрадным ликованием духа ради сознания великих милостей Божиих». Такая трапеза может иметь продолжительность в два-четыре часа и при этом не будет утомляемости.
Во второй трети трапезы перед чаем выходим на улицу, чтобы поводить хороводы. Эта часть жизни так же потребовала немало устроительных действий. Требовалось сбить желание скаканья и плясок, прихлопывания и притопывания, кружения под гармонь со свистом, визгами и гиканьем, так называемой народной разудалости дерзких, богопротивных шумных настроений, ложной народной широкости веселья, на деле же безблагодатного разгула страстей и упоения ими, а тем более желание всяких дискотечных ритмов и бесовских танцевальных движений. Нужно было внедрить в обычай, научить, дать вкусить и основательно привить характер молодежных игр и хороводов, дабы они, будучи радостными, свободными и деятельными, не противились бы при этом содержанию и духу праздника, а были бы его продолжением.
После хороводов и чаепития участники праздника ехали в дом для престарелых и инвалидов славить Христа, Матерь Божию, святых, в дом унылой жизни принести радость церковную, чтобы поддержать, утешить, воодушевить людей, оставленных своими детьми, родными, близкими или потерявших их.
Так день праздника завершался благотворением.
Итак, по свт. Феофану: «с вечера до вечера, от начала праздника по конец его, оставив вещественные труды и всякую заботу, в чувстве льготы от них и свободы, как бы в предвкушении свободы будущего века, проводить должно сие время в Богохвалении, Богомыслии и благотворении, вообще – исключительно в спасение»…