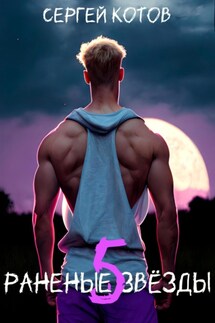Пути психологического поиска. Претензии и возможности - страница 10
Основные свойства рецептивных полей закреплены генетически и могут быть обнаружены у новорожденного организма. Вместе с тем рецептивные поля обладают очень большой пластичностью, благодаря чему их окончательное формирование и обучение происходит в онтогенезе каждой особи (Развивающийся мозг и среда, 1980; Infant perception, 1975). В результате осуществляется органическое соединение жестких (генетически детерминированных) и гибких (сформированных при жизни) звеньев зрительной системы. Соотношение этих звеньев зависит от эволюционного уровня животного.
Таким образом, принципиальная возможность предметного видения обусловлена в первую очередь не интеллектуальными возможностями человека или животного, а устройством его сенсорного аппарата. Разумеется, развитие последнего протекает в теснейшем взаимодействии с развитием всех других психических функций, в том числе интеллектуальных.
Следует, видимо, напомнить, что противопоставление упорядоченных форм сознания хаосу чувственных впечатлений – один из главных постулатов И. Канта (1964), который мы склонны забывать, а затем охотно открывать заново.
Особое внимание уделяют сторонники двойственной природы образов восприятия экспериментам с инверсирующими призматическими очками и другими оптическими приспособлениями, нарушающими обычные условия зрения и искажающими видимую картину. Поскольку при таких искажениях понимание и точное описание видимой сцены становится для испытуемых затруднительным, результаты этих опытов интепретируются как прямое доказательство возможности отделить чувственную ткань образа от его предметного содержания, т.е. сделать восприятие беспредметным. При этом, однако, не учитывается, что быстрое и адекватное опознание предметов, осуществляемое обученной зрительной системой, предполагает наличие вполне определенных сенсорных навыков, которые ломаются в условиях неестественных оптических искажений. Требуется определенное время – период адаптации для переучивания зрительной системы и формирования новых навыков. В этот переходный период нормальное восприятие действительно затруднено, но оно вовсе не становится беспредметным, лишенным признаков объективности. Самое большее, чего можно достигнуть при очень сильных искажениях,– это возникновения у испытуемого впечатления, что он видит не удаленные на некоторое расстояние предметы, а картинку, помещенную в оптическом устройстве. Тем не менее, эта картинка вполне объективирована и воспринимается как реально существующая. Очень показательна хорошо известная офтальмологам возможность увидеть в определенных искусственных условиях сеть кровеносных сосудов собственной сетчатки. Но даже эта сеть никогда не воспринимается человеком как содержимое своего глаза, а всегда объективируется во внешнем пространстве.
Необходимость периода адаптации говорит о том, что простого добавления интеллектуальных элементов (сознательных или бессознательных умозаключений) к сенсорному материалу явно недостаточно. Человек в призматических очках очень быстро осознает, что он видит мир вверх ногами и что это – оптический обман. Но от такого понимания видимая картина не становится на ноги.
Приведенные здесь рассуждения ни в коей мере не направлены против понятия «разумного глаза» (Грегори, 1972). Глаз человека, безусловно, является разумным, но это качество не достигается за счет суммации двух раздельных и поддающихся разделению сущностей – сенсорной и интеллектуальной, а обусловлено единством чувственного и рационального в психике человека (Ананьев, 1977).