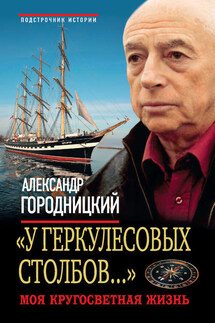. Как отмечает Ю.Н. Давыдов, рациональность у Вебера выражает предельную целесообразность, максимальное соответствие целей и средств их достижения в любой из сфер человеческой деятельности
31. Другие типы социального действия характеризуются различной степенью иррациональности. Упомянутая модель служит для «измерения» эмпирически фиксируемого поведения социальных субъектов для выявления отклонения от нормы связи цели и средств (иррациональности), что приводит к пониманию наблюдаемых фактов
32. М. Вебер выделил шесть типов поведения, четкость границ между которыми проблемна: 1) более или менее приближенно достигнутый правильный тип (объективная рациональность); 2) субъективно целерационально ориентированный тип; 3) более или менее осознанное и более или менее однозначно целерационально ориентированное поведение; 4) нецелерациональное поведение, но понятное по своим смысловым связям; 5) поведение, мотивированное более или менее понятной смысловой связью, прерываемой непонятными, отчасти также определяющими ее моментами; 6) поведение, мотивированное совершенно непонятными психическими и физическими данностями «в» человеке и «связанными» с ним
33. Таким образом, данная типологизация построена по принципу соотнесения действий индивида с логической моделью связи средств с целью деятельности. Такая модель есть своего рода эталон рациональности, максимально выраженный в действиях правильно-рационального (объективная рациональность) и целерационального типов. Углубляя данный вывод, Н.Н. Зарубина отмечает, что рационализация сопряжена с удвоением мира и упорядочиванием, объяснением его на основе нахождения трансцендентных точек, позволяющих мир оценить
34. Вместе с тем, данная трактовка рациональности сталкивается со значительными трудностями в интерпретации рациональности современного общества. «Текучая» современность с ее размытыми стандартами рациональности
35, наступление эпохи постмодерна, существенной чертой которой стала «играизация» с ее «упорядочением неупорядоченности»
36, утверждают детерминирующую роль случайного, сиюминутного, неупорядоченного, нестандартизированного − иррациональных факторов социальной жизни. В этих условиях исследователи вместо того, чтобы постулировать в качестве рациональности модель связи цели и средств как способ рационального измерения реальности, указывают на появление «гибридного типа рациональности»
37, «пострациональности»
38, на множественность форм рациональности и перехода рациональности в свою противоположность, на включение в поле рациональности иррациональных элементов, которые трактуются как новые формы рациональности
39. В контексте таких флуктуаций рациональность утрачивает свою качественную определенность, в связи с чем ее объяснительная способность как теоретической модели существенно снижается. Более того, в рамках постмодернистского дискурса с его тотальным релятивизмом наблюдается тенденция к отмене рациональности как устойчивой характеристики социальной реальности. Такая тенденция выражается в по сути бесконечном умножении не связанных друг с другом смыслов рациональности. Это порождает бессмысленность употребления понятия рациональности в научном контексте ввиду крайней размытости его содержания.
Но утверждение связи цели и средств как способа рационального измерения реальности также не решает проблему существенного признака рациональности. В данной версии остаются невыясненными основания, исходя из которых в качестве рациональности рассматривается логическая связь цели и средств деятельности. Таким основанием приведенные авторы называют очевидность, которая в теории В. Парето выражена в интерпретации связи цели и средств групповым социальным субъектом, в теории М. Вебера − интеллектуальном понимании смысловых связей. Проблематичность данного основания состоит в том, что такая очевидность всегда имеет культурную обусловленность: содержание очевидности является неодинаковым в различных культурных контекстах, в рамках различных исторических периодов существования и развития обществ и имеет зависимость от господствующих мировоззренческих парадигм. Данное обстоятельство приводит к утверждению многих историко-культурных типов рациональности, что в конечном итоге размывает исходный критерий рациональности (рациональность оказывается неидентичной самой себе) и создает указанную во введении теоретико-методологическую проблему.