Ради радости - страница 41
Мои пальцы, немея от непривычной работы, казались чужими, зато вымя, которое колыхалось передо мной, как живое и самостоятельное существо – вся остальная корова казалась всего лишь придатком к нему, – вымя становилось всё более близким, знакомым, своим. Я уже знал, какие сосцы доятся легче, а какие труднее; и я сгонял оводов, норовивших присесть на тугое, горячее вымя, с таким раздражением, словно сгонял их с собственного лица. Передо мною, я чувствовал, была не просто живая молочная фабрика, кормившая, можно сказать, всё человечество, но передо мною сейчас была сама жизнь, с её очевидною и невероятною тайной. Да, в этом вымени, в его вздувшихся венах и горячих сосцах, за которые я усердно тянул занемевшими пальцами, белыми от молока, в нём была жизнь, к которой я только надеялся как-то приблизиться и причаститься. Вымя пахло коровой и хлевом, навозом, травой, молоком, мокрой тряпкой и жестью подойника, пахло кирзой сапог Зинки, стоявшей у меня за плечом и как-то странно в эти минуты притихшей, пахло пылью и полем, закатом, вечерним туманом, который уже начинал опускаться на Сяковку; оно пахло всем, что было вокруг, и ещё чем-то неуловимым, чего в мире как будто и нет, но без чего невозможен ни этот вечер, ни гул затихающей дойки, ни Зинка, ни я, ни корова…
– Ладно, хватит, а то совсем ей соски оторвёшь. – Зинка, со странной досадою в голосе наконец останавливала меня. – Ишь, присосался!
А я, прекращая доить и с трудом разгибая затёкшую спину, вдруг догадывался, что доярка, похоже, ревнует меня, молодого, к корове. Зинке, самой ещё полной живых, нерастраченных сил, досадно, наверное, было видеть, как здоровенный студент увлекается – из любопытства и прихоти – дойкой коровы, и это вместо того, чтобы заняться чем-нибудь посущественней.
– Ты молоко-то пить будешь иль как?
– Буду, конечно, за тем и пришёл.
– Ну, давай нацежу…
Доярка, вздохнув, накрывала подойник лоскутом чистой марли и начинала лить в кружку густое и странно бесшумное – словно во сне – молоко. Когда я подносил эту кружку к губам, мои руки дрожали – напряжение дойки ещё не оставило их, – а в молочной податливой пене выдувалась ямка от дыхания. Но скоро я ничего этого – ни дрожи, ни ямки – не замечал: глоток за глотком я всё больше тонул в молоке, над которым шипела белейшая пена. Казалось, не молоко сейчас льётся в меня, а я тону в нём, погружаюсь в него, словно в реку иль женщину, в ночь или в недра глубокого сна…
НОЧЬ ХОЛОДЦА. Была в моей жизни воистину раблезианская трапеза: при свечах, глухой ночью, когда холодец мы черпали ложками из громадных тазов, а по стенам метались и корчились наши огромные тени…
Развесёлой компанией – только что кончили мединститут – мы приехали в небольшой городок на Псковщине на свадьбу нашего общего друга. Накануне по этим местам прошёл смерч – старожилы, возможно, помнят лето 1986 года, – и мы, пока ехали, видели из окон вагона целые полосы леса, словно прокошенные гигантской косой: деревья были обломаны ровно посередине, верхушки их беспорядочно разбросало, а запах листвы, начинающей вянуть, пробивался даже сквозь горько-мазутные запахи поезда.
В городке, куда мы приехали ночью, света не было: смерч везде оборвал провода. Жених Николай встретил нас с фонарём и повёл к себе в дом, где, несмотря на позднее время, полным ходом шли приготовления к свадьбе. Мать жениха, тётя Римма, встретила нас как родных, но чем-то явно была озабочена.


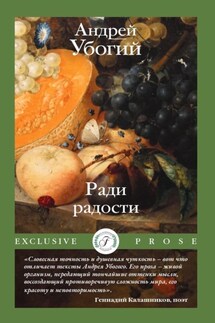

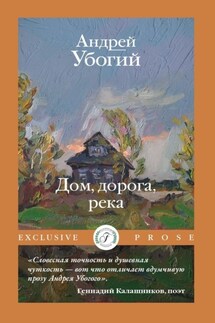

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



