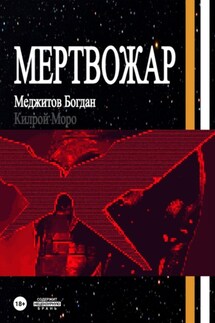, бесконечно, мрачно, хоть и ни в единый миг не врасплох)… его фраза
Падре Игнасио развертывается в испанского инквизитора, черную сутану, смуглый нос с горбинкой, удушающую вонь фимиама + духовник/палач + Катье и Готтфрид оба на коленях, бок о бок в темной исповедальне + + дети из старой
Märchen[36] на коленях, а коленкам холодно и больно, пред Печью, шепчут ей секреты, кои никому больше не могут поведать + охота на ведьм, параноидальная мания капитана Бликеро, и он подозревает их обоих, несмотря на мандат
NSB[37] у Катье + Печь как слушатель/мститель + Катье на коленях перед Бликеро, разряженным в черный бархат и кубинские каблуки, пенис его сплющен под телесного цвета кожаным бандажом, к которому сверху он прицепил искусственную пизду и лохматку из соболя, и то, и другое изготовлено вручную в Берлине прискорбно известной мадам Офир, фальшивые губы и ярко-лиловый клитор отлиты из – мадам покорно просила прощенья, ссылаясь на дефицит, – синтетической резины и миполама, нового поливинилхлорида… жизнеподобная розовая влажность топорщится крохотными лезвиями из нержавейки, их сотни, и Катье на коленях вынуждена резать себе губы и язык о них, а затем поцелуями рисовать кровавые абстракции на золотой незагрунтованной спине своего «брата» Готтфрида. Брата по игре, по рабству… она никогда его не видела, пока не пришла в реквизированный домик возле пусковых площадок, запрятанных в рощах и парковых насаждениях этого заселенного клина мелких ферм и поместий, что тянется к востоку от королевского города меж двумя просторами польдера к Вассенару, – однако лицо его в тот первый раз, в осеннем свете сквозь огромное западное окно гостиной, когда он стоял на коленях голый, если не считать шипастого ошейника, метрономно мастурбируя под выкрики приказов капитана Бликеро, вся его светлая кожа, испятнанная предвечерним солнцем до светящегося синтетически-оранжевого оттенка, который она прежде никогда не связывала с кожей, его пенис – монолит крови, чей густо задышливый голос отчетливо слышен в тиши ковров, его лицо, подъятое отнюдь не к ним самим, но будто бы к чему-то на потолке или в небесах, которые потолок может его взгляду заменять, а глаза опущены долу, в каковом состоянии он, похоже, проводит бо́льшую часть времени, – его лицо, воздетое, напряженное все больше, кончающее, так близко к тому, что она всю свою жизнь видела в зеркалах, к ее собственному продуманному взору манекена, что она затаивает дух, на миг ощущает ускорившуюся дробь сердца и лишь затем обращает помянутый взор на Бликеро. Тот в восторге.
– Быть может, – говорит он, – я обрежу тебе волосы. – Улыбается Готтфриду. – Быть может, его заставлю отрастить.
Унижение мальчику будет полезно каждое утро в казармах, выстроившихся в ряд за его батареей у Schußstelle[38]3, где некогда с громом неслись лошади перед неистовыми, проигрывающими завсегдатаями скачек прежнего мира, – смотров он раз за разом не проходит, однако его капитан прикрывает от армейской дисциплины. Вместо этого между стрельбами, днем ли, ночью, недосыпая, в самое неурочное время он претерпевает собственную Hexeszüchtigung[39] капитана. Но ей-то Бликеро обрезал волосы? Этого она уже не помнит. Знает, что раз или два надевала мундиры Готтфрида (волосы, да, подбирала под его пилотку), при этом легко могла бы сойти за его двойника, такие ночи проводила «в клетке», поскольку правила устанавливал Бликеро, а Готтфриду следовало носить ее шелковые чулки, кружевной передник и колпак, весь ее атлас и органди с лентами. Но после он всегда должен возвращаться в клетку. Так положено. Их капитан не дозволяет никаких сомнений, кто из них, брат или сестра, на самом деле горничная, а кто – гусь на откорме.