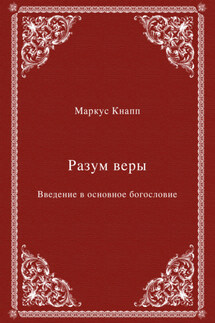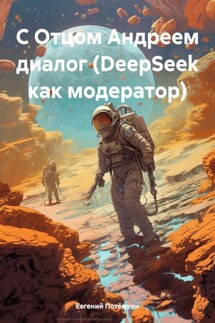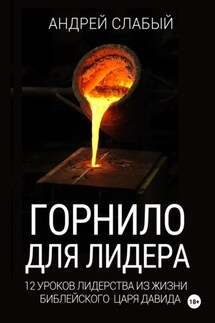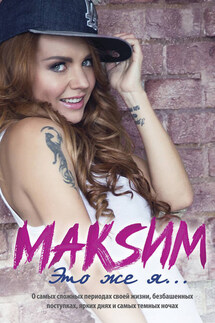Разум веры. Введение в основное богословие - страница 31
К этой задаче Блондель приступает в работе 1893 г. «Действие» («L’Action. Essai d’une critique de la vie et d’une science de la pratique») (Bouillard, 1963; Schmitz, 1969, 204–210; Flury, 1979, 94–102; Verweyen, 1986a)[51]. Он рассматривает всю взаимосвязь человеческой жизни как свершение поступка. Этот action, в котором человек себя обнаруживает, артикулируется в сознательных определениях воли (volonté voulue), преследующих свои особенные, разнообразные цели. В основе – некое изначальное волеизъявление (volonté voulante), которое всему этому action человеческой жизни дало первый импульс и всякий раз снова приводит его в движение. Начиная с элементарных чувственных восприятий, продолжая научными и социальными устремлениями и завершая нравственными, метафизическими и религиозными значениями, это движение направляется ко все более обобщающей тотальности. При этом, однако, проявляется постоянная несоразмерность между первичной динамикой и конкретными определениями воли: изначальное волеизъявление не находит себя полностью ни в одном из конкретных целеполаганий, оно, в конечном счете, не может быть удовлетворено и всеми ими вместе. Правда, снова и снова эту стремящуюся вперед динамику пытаются закрепить в определенных формах и образах жизни, которые человек создает исходя из своих возможностей. Однако все эти попытки подлежат разоблачению как идеологические.
Так анализ, осуществляемый Блонделем, в конце концов приводит к заключению, что потребность, заложенная в изначальном волеизъявлении, не может быть удовлетворена имманентностью «действия». Следует признать, что эта потребность действительно существует, а также то, что ничем внутри природного порядка ее нельзя удовлетворить. «Она насущна, и она неутолима. Это… последний вывод из детерминизма человеческой деятельности» (Blondel, 1965, 319). Но тем самым на чисто философском уровне проявляются контуры сверхъестественного. Философский анализ сам по себе приводит к идее, что динамика человеческого действия могла бы прийти к завершению только в сверхъестественном. Предъявить реальность последнего философия иным образом не могла бы, она выясняется только в этой идее. Ею, во всяком случае, показано, что человеку не хватает себя самого, и в самом человеке обнаруживается след, подразумевающий его отзывчивость к сверхъестественному откровению.
Через несколько лет после публикации «Действия» Блондель подверг в своем «Письме об апологетике» («Lettre sur l’apologétique», 1896) суровой ревизии апологетику того времени. На ее представителей это произвело такое впечатление, будто он хочет полностью отвергнуть традиционную апологетику и заменить своей, построенной на методе имманентности. Поэтому Блондель внутри современной ему теологии был подвергнут массированному отрицанию. Но сам Блондель в полемике вокруг своей позиции всегда подчеркивал, что впечатление, ею вызванное, является неверным. Он ни в коем случае не имел ввиду отбросить «объективистскую апологетику» – он в полной мере признавал ее значимость, но хотел расширить ее посредством имманентистской, показывающей способность человека отзываться на откровение. Блондель не хотел оставлять такие события, как чудо, явление Иисуса или возникновение Церкви просто в их объективно-историческом статусе. По его мнению, их значение сохраняется лишь в том случае, когда воспринимающий их субъект соответственным образом предрасположен. Только тогда эти феномены могут служить знамениями Божественных дел. Если же человек, напротив, не подготовлен внутренне к возможности сверхъестественного откровения, то он остается слеп и к знаковости этих событий.