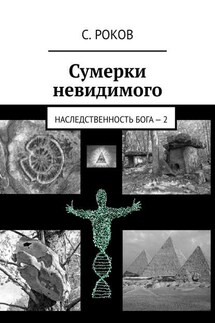Разворошивши, улыбнись! Сборник короткой прозы - страница 4
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой,
Меж бурным сердцем и грозой?6
Розе было девятнадцать, и она умела многое, но не умела главного – не играла на пианино, – поэтому-то мать нашла ей полгода назад через знакомых учителя, весьма талантливого пианиста в прошлом и лучшего преподавателя истории музыки в настоящем. Лидии Михайловне всюду говорили, что Геннадий Викторович не согласится учить игре на пианино, давно якобы отошел именно от этого дела и теперь занимается исключительно теорией, но ей, на удивление знакомых и друзей, каким-то образом удалось с пианистом, как она его называла иногда, договориться.
В декабре, вспоминала Роза, полгода назад, когда она ещё знать не знала, каков на самом деле Гена, она была настроена решительно против очередного Викторовича, который должен был, как и все прочие, обращаясь к ней на «Вы», в течение сорока пяти минут обучать чему-то важному. Морозное утро, да, оно самое… оно было разомкнутым, казалось ей ныне, словно все то, что в нём было – пианино, легкий тюль на окне, разложенные нотные листы на пюпитре (ре бемоль, ми бемоль, ля бемоль, до дубль бемоль! – тараторила ектенью перед сном она), тогда ещё напоминавшие иероглифы, шастающая между ног белая болонка и легкий луч солнца, раз в пару минут прорывающийся в окно и освещающий её тонкие пальчики – все оно было свободным, хотя выбирало быть вместе друг с другом, составлять единую картину. Очарование на те дни легло не так давно: ре, ми, ля, до дубль; а ещё до диез, си дубль диез и просто соль диез… о, Боги, она тогда чуть с ума не сошла, не расплакалась, когда он с ученым видом принялся объяснять ей, что значат все эти символы и названия. О, как глупо она себя чувствовала! Да, ей казалось, что более стыдно ей никогда не было, как в те сорок пять минут, да и в следующие несколько недель, что он пытался обучить её, как маленькую первоклассницу, в его понимании «базовому», и она тогда ещё пуще ненавидела его, чем в минуту знакомства (ведь она никогда не хотела играть на пианино), потому что он ни капельки не был к ней радушен и особенно не любезничал; в окружении пианино, безупречно красивого и правильного, она чувствовала себя совершенно никчемной: ей казалось, что черствый Геннадий Викторович больше всех на свете любит музыку, и что, умри она, он бы даже не ахнул, даже не привстал бы со своего шатающегося стула, ведь, пока она падала, мертвая, её рука задела крышку и та с оглушающим грохотом опустилась; опустилась не нежно, как нужно было, а резко, как снег схлынивает с горных вершин и сметает все со своего пути.
Роза сейчас глядела на голубое пространство и вспоминала один за другим дни, в которые Гена учил её – дни шли, как черные и белые, и если бы можно было построить прямую и на ней ставить точки, то крайняя правая была бы самой крошечной. Она вспомнила, как тяжело ей было в первую встречу; как бишь она была одета? На ней в тот декабрьский день была аляповатая блузка, по истечении полугода казавшаяся почти что прелестной (потому что он потом говорил, что в ней она была похожа на ту девочку, что с персиками: намекал на картину Серова), и тёмные волосы, как приказала мама, она заплела в две косы, и она тогда чуть-чуть лишь подкрасилась, и вообще она была мягка! Роза иногда смаковала это воспоминание, умильно обращалась к нему, Гене, в памяти, как когда-то в прихожей – «Здравствуйте, меня зовут Роза», – так и теперь ей вспомнилось все это и ещё то, с какой гордостью он представился. «Воскресенский Геннадий Викторович, рад знакомству»! – напыщенно, словно князь какой-то, а не простой учитель музыки. Только немного после Роза осознала, что на самом-то деле в его словах не было и тени горделивости, да и губы его отнюдь не чванливо ей улыбались, но с искренней добротой; однако в то морозно-серое утро он показался ей надменным, малосимпатичным мужчиной, который только своей фамилией и может хвастаться. Ба, полгода! Роза принялась считать, сколько всего занятий они провели, хотела уж было помножить два (количество занятий в неделю) на примерно двадцать шесть (количество недель в полугоде: в году пятьдесят две, следовательно, в полугоде вдвое меньше), но вдруг в ладонь уткнулся сырой нос, и сырость эта как бы ноль разделила на ноль и отрезвила: нельзя считать часы, счастливые их не наблюдают, а она ведь счастлива! И потому не должна наблюдать.