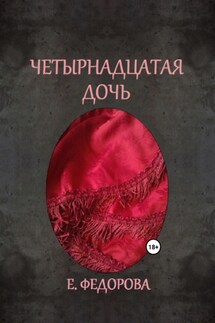Рефлексия. Памяти Владимира Лефевра - страница 2
.
Важнейшее свойство понятий – их коллективность, сопризнание их общими для участников коллективной мыследеятельности, в данном конкретном случае – образовательной деятельности, деятельности по освоению иностранного языка. Понятия возникают (вспыхивают) на пересечениях индивидуальных представлений и воспринимаются как единицы и ощутимые доказательства взаимопонимания.
Платон неслучайно использовал диалог как самую компактную форму и процесс взаимопонимания между персонажами, автором (и стоящим за ним переводчиком) и читателем (включая комментатора).
Среди мириадов понятий сверхновыми вспыхивают ага-эффекты и озарения понимания, по большей части ложные или эфемерные, но порой и весьма устойчивые.
Понятийный хаос усиливался бы до бесконечности, если бы не было РП, организующего и структурирующего поток понятий. Тут позиции ПР и РП относительно понятий близки буддисткой бинарности ян-инь, порождающему и успокаивающему началам.
В классической методологической схеме мыследеятельности понимание в неявной форме представлено между мышлением и мысль-коммуникацией. Вместе с тем понимание (на это неоднократно указывал Г. И. Богин) ортогонально рефлексии: рефлексия возникает только в непонимании, понимание закрывает собой и останавливает рефлексию. Эта ортогональность порождает обычно странные эффекты: понимание благодаря этой ортогональности мимикрирует то под мышление, то под знания, то замещает собой понимаемую реальность: то мы думаем, что мы мыслим, то нам мнится, что мир таков, каким мы его понимаем, то нам кажется, что мы его знаем, коль понимаем. Сосуществуя, ПР и РП составляют постоянно спотыкающееся и запинающееся единство: отсюда млечная непроявленность понимания, размытость и галактичность пути. В отличие от мышления с его кристаллической решеткой логических процедур, понимание аморфно и невыразимо.
В еще менее выраженной форме понимание присутствует в пространстве между мысль-коммуникацией и мыследействием: оно представлено осмысленными (рефлексивно отнормированными и закрепленными в практике и опыте) навыками и умениями.
И, наконец, все пространство мысль-коммуникации заполнено (или осваивается) пониманием, непременным условием коммуникации, превращающейся без этого понимания в бред и абсурд. Это означает, что ПР и РП пронизывают собой мысль-коммуникацию, конфигурируют в ней лакуны взаимонепонимания, делают ее драматически сложной, турбулентной – живой.
Адекватная схеме коллективной мыследеятельности, схема полипроцесса образования представлена просвещением (в слое мышления), воспитанием (в слое мысль-коммуникации) и обучением (в слое мыследействия). Это может показаться парадоксальным и даже экстравагантным, но лингвистическое образование ориентировано прежде всего на воспитание речевых норм коммуникации и поведения (реальный пример, подтверждающий эту мысль: в парную входит американский преподаватель русского языка, интеллигентный даже в голом виде, что дано преимущественно лишь русским, и грамматически абсолютно правильно, без тени акцента говорит: «С легким паром!»; сидящий со мной русский, совершенно не привыкший к местным особенностям, от изумления чуть не катится с верхней полки, а потом трагическим шепотом предупреждает меня: «это не наш человек!» – ну, не принято у нас желать друг другу легкого пара до завершения банного ритуала).
Сознанию свойственна метонимия и экономность: во многом этим объясняется свернутость многих речевых и прочих культурных норм в символы. Чем универсальней символ, чем больше смыслов упаковано и запечатано в нем, тем более он не поддается пониманию и, за счет дефицита понимания, тем богаче и разнообразней ПР, тем сильнее искушение впасть в бездны РП.