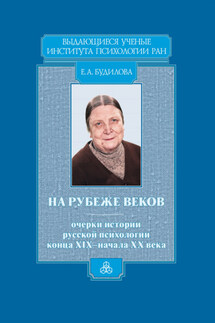Читать онлайн Александр Карпов - Религиозная жизнь Древней Руси в IX–XI веках. Язычество, христианство, двоеверие
© А. В. Карпов, 2008
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2019
Введение
Широко отмечавшиеся 1000-летие крещения Руси и 2000-летие христианства обусловили усиление общественного и научного интереса к эпохе становления русского православия. К тому важнейшему историческому периоду, когда сформировались характерные черты национальной религиозной традиции, оказывавшей определяющее влияние на духовную жизнь России. По мысли академика Д. С. Лихачева, именно со времени крещения и следует начинать историю русской культуры в ее всемирно-историческом значении: «основное, что сделано восточным славянством для мировой культуры, сделано за последнее тысячелетие»[1].
Среди различных сторон и аспектов такой многогранной темы, как религия ранней Руси, следует выделить проблему взаимоотношений христианства и язычества[2]. Несмотря на наличие значительного количества работ, посвященных частным сюжетам, до сих пор отсутствует целостное понимание сложного и неоднозначного процесса распространения христианского вероучения как социокультурного и религиозно-мировоззренческого феномена.
Эпоха раннего средневековья только в последнее время стала восприниматься как историческое «ядро» древнерусской цивилизации, определившее направление тысячелетнего пути русской культуры. Парадигмы общественного сознания, формировавшиеся в переходный период христианизации, устойчиво воздействовали на духовное развитие Руси и в Киевский, и в Московский период. Становление новой христианской культуры на базе византийского и южнославянского наследия происходило параллельно с динамичной перестройкой всей системы традиционного культурного уклада. Трансформация основных структурных компонентов массовой религиозности была неразрывно связана с общим ходом исторического процесса.
На протяжении XVIII–XX вв. данная проблематика являлась предметом обсуждения в многочисленных трудах историков, философов, филологов, этнографов и фольклористов. Однако ее изучение часто оказывалось в сфере влияния общественно-идеологических факторов, уменьшавших возможности объективного научного анализа. Следует отметить, что в отечественной научной литературе вплоть до начала XX в. религиозная жизнь средневековья преимущественно сводилась к истории богословских идей, отраженных в памятниках церковной письменности. Практически не привлекались археологические источники, имеющие важнейшее значение для реконструкции религиозного сознания Древней Руси.
Проблема соотношения христианских и языческих компонентов древнерусской культуры не являлась приоритетной и в советской науке, сосредоточившей основное внимание на социальных предпосылках и последствиях христианизации. В 60–70-е годы ХХ в. началось активное изучение традиционной духовной культуры и архаических верований славян в рамках филологических, этнолингвистических и археологических исследований. Однако эпоха перехода от язычества к христианству по прежнему рассматривалась, преимущественно, на основе сформулированной еще в XIX столетии концепции двоеверия. Исследования религиозных аспектов древнерусской культуры носили обобщенный характер, не учитывалась этнокультурная специфика отдельных регионов[3], различие в темпах их социально-политического развития, особенности социальной структуры раннесредневекового общества[4].
Не уделялось должного внимания комплексу богословско-догматических знаний и канонических правил восточного христианства, которые являлись непосредственной основой становления и развития древнерусской церковной организации. 1980-е гг. были ознаменованы большим количеством публикаций в той или иной мере связанных с празднованием 1000-летия крещения Руси. В ряде философских и культурологических работ были высказаны важные мысли и наблюдения относительно мировоззренческих аспектов введения христианства.
Принципиально новый этап изучения религиозной жизни ранней Руси начался в 1990-е годы, что, в первую очередь, было связано с освобождением гуманитарных наук от искусственно навязываемых идеологических установок. Появились не только возможности свободной интерпретации источниковых материалов, но началась постепенная интеграция историко-археологических и философско-культурологических методов изучения древнерусского общества.
Прежде всего, здесь следует отметить специальные исследования в области русских христианских древностей, осуществленные А. Е. Мусиным, Л. А. Беляевым и А. В. Чернецовым, Т. Д. Пановой, Н. А. Макаровым и В. Я. Петрухиным. Кроме того, в этот период были предложены и новые теоретические подходы к анализу древнерусской религиозности. Однако, не смотря на это, задача воссоздания реальной картины межрелигиозных контактов в системе древнерусской культуры еще очень далека от решения. Назрела необходимость перейти от анализа отдельных форм взаимодействия христианства и язычества к выработке целостной концепции эволюции религиозного мировоззрения на Руси. И эта задача должна выполнятся с учетом высказывавшегося многими убеждения в том, что русский народ «принял христианство не как схоластическую систему, которую разрабатывает Церковь, <…> а как руководство к праведной жизни и добротолюбию согласно с евангельскою правдою»[5].
Известное свойство практического благочестия в православной традиции, не только «народного» («благочестие простецов»), но и вполне просвещенного – то, что его богословский фундамент составляют преимущественно литургические тексты, которые обыкновенно в огромном количестве помнятся наизусть. Доктринальные же сочинения Св. Отцов составляют почти исключительно чтение ученых, «профессионалов». Но в отличие от рассуждения, литургическое богословие предполагает в воспринимающем состояние вовлеченности, а не дистанцирования и оценки. То, что при этом передается и принимается – не «смысл» как какое-то конкретное понятийное содержание, а реальность смысла, священная сила смысла[6].
Данная книга является переработанной и существенно расширенной версией моей монографии «Религия ранней Руси: от язычества к христианству», опубликованной Государственным музеем истории религии в 2006 г. Неизменной остается моя благодарность руководству музея и всем моим коллегам по работе за доброжелательную и дружескую поддержку.
Считаю своим долгом выразить особую признательность моему научному руководителю – доктору исторических наук, профессору М. Б. Свердлову. Также искренне благодарю С. С. Гусева, Т. Н. Дмитриеву, А. Ф. Замалеева, О. М. Иоаннисяна, Л. С. Клейна, Н. А. Макарова, А. Е. Мусина, А. А. Панченко, Н. И. Петрова, Д. С. Пичугину, Е. А. Ростовцева, Е. А. Рябинина, В. Н. Седых, О. В. Творогова, А. В. Черемисина, И. Х. Черняка, Т. В. Чумакову, М. М. Шахнович, М. А. Шибаева, О. А. Щеглову за консультации, замечания и полезные советы. Благодарю всех, кто в той или иной степени помогал мне в научных изысканиях.
Глава 1
Современные проблемы изучения христианско-языческих взаимоотношений в Древней Руси
Теоретико-методологические аспекты исследования
Общественные науки, на современном этапе их развития, характеризуются значительной неопределенностью методологических подходов. В этом контексте религиоведение, как сравнительно молодая отрасль гуманитарного знания, испытывает, возможно, наибольшие трудности. Являясь наукой синтетической и междисциплинарной, религиоведение, с одной стороны, пользуется методологией истории, этнографии и языкознания, с другой – стремится к выработке собственного методологического аппарата.
Историческое религиоведение всегда применяло хорошо разработанные методы вспомогательных исторических дисциплин[7], а также опиралось на те или иные приемы обобщения фактического материала. Религиоведение теоретическое обращалось к общефилософской методологии; в этом русле развивалась и собственно философия религии[8]. Для религиоведения новейшего времени свойственно стремление использовать весь спектр имеющихся методов с целью получения наиболее адекватного описания и объяснения феноменов религиозной жизни[9]. По всей видимости, данный подход наиболее соответствует культурной специфике древнерусской религиозности периода перехода от язычества к христианству, когда в религиозном сознании общества одновременно наличествовали и элементы мифологической картины мира, и важнейшие компоненты христианского вероучения.
В этой связи, первоочередной задачей мне видится последовательное использование единообразной, логически выстроенной системы общегуманитарных и религиоведческих понятий и терминов, которые зачастую употребляются без учета их специфики и неоднозначности истолкований.
Понятие «культура» занимает, пожалуй, первое место по множественности его определений в научной литературе[10]. В рамках европейской цивилизации оно прошло огромный путь «насыщения» новыми смыслами[11]. Цели моей работы предполагают выбор такого определения культуры, которое позволяло бы с наибольшей степенью точности выявить место разнообразных явлений религиозной жизни во всей совокупности общественного бытия. Но этот выбор оказывается весьма затрудненным. По верному замечанию Э. В. Соколова, «сегодня мы не имеем единой культурологии, а имеем множество культурологических теорий, обладающих разной степенью широты и силы»[12].
С одной стороны, «взятое в широком смысле современное понятие культуры обозначает все то, что создано руками и разумом человека»[13]. С другой стороны, согласно концепции В. С. Степина, культуру можно рассматривать как «систему исторически развивающихся надбиологических программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения), обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех ее основных проявлениях». Эти «программы – представлены многообразием знаний, норм, навыков, идеалов, образцов деятельности и поведения, идей, гипотез, верований, целей и ценностных ориентаций и т. д.»[14]. Данный подход частично совпадает с пониманием культуры в качестве способа человеческой деятельности, которое обосновывал и разрабатывал в своих трудах один из ведущих культурологов последних десятилетий Э. С. Маркарян[15]. Однако он не исключал из сферы культуры и результаты деятельности, объективированные как в духовной, так и в материальной форме, подчеркивая, что «при рассмотрении процесса деятельности любой объективированный элемент культуры так или иначе призван служить средством ее актуализации (стимуляции, программирования, реализации, физического жизнеобеспечения и т. д.), а тем самым включатся в понятие “способ деятельности”»[16]. «Выделение генерального свойства любого проявления культуры – служить специфическим средством человеческой деятельности – как раз и позволяет интегрировать данные проявления в единый класс безотносительно к их структурным различиям, независимо от того, выражают ли они процессы психики, поведенческие акты или объективированные продукты. Именно подобная функциональная характеристика позволяет зачислять в один класс объектов такие различные явления как, например, орудия труда и обычаи»[17].
Определение, предложенное Э. С. Маркаряном, удачно интегрирует понимание культуры в качестве совокупности результатов производительного труда человека и восприятие культуры в виде надбиологических (социальных) программ. Следует учесть и еще более расширительное определение культуры, выдвинутое М. С. Каганом. Он включает в культуру: качества человека как субъекта деятельности (качества сверхприродные, формирующиеся в ходе становления человечества); способы деятельности; многообразие предметов – материальных, духовных – в которых опредмечиваются результаты деятельности; вторичные способы деятельности, служащие распредмечиванию тех человеческих качеств, которые хранятся в предметном бытии культуры; и самого человека, который становится продуктом культуры