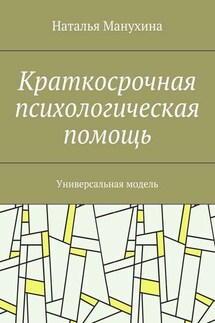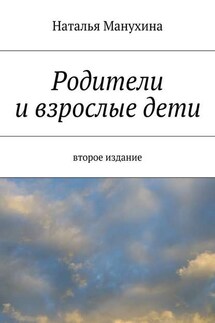Родители и взрослые дети - страница 15
Максу 30, Элине 25 лет. Молодой человек переезжает жить к девушке, у которой есть собственная комната в квартире ее родителей (с их согласия). В его понимании «порядок» – это пустая комната с минимальным числом предметов, которые он выбирает и расставляет сам, причем так, чтобы отдельные вещи были убраны в шкафы, закрытые полки, столы, «чтобы проще было убираться, пыль вытирать». Он вспоминает, что подростком «отвоевал свою самостоятельность», выкинув из своей комнаты (а потом и из дома вообще) все, что было куплено и установлено в ней родителями.
Для нее «порядок» – это свободно распределяемые по всему пространству комнаты вещи, которые «всегда под рукой», «уборка производится так и тогда, когда я решу», «главное, чтобы не было пыли». Она подростком «отстояла свое право», чтобы в ее комнату родители не входили и «не наводили свой порядок».
И вот они теперь живут вместе. Макс чувствует, что живет «в маленькой норке», а все пространство комнаты «захламлено ненужными вещами», однако «все вымыто, и пыли нет». Элина ощущает, что ее постоянно притесняют и попрекают, нарушая «привычный и нужный для жизни и работы порядок».
В ответ на предложение представить себе их будущую квартиру они приходят к тому, что им нужна не двухкомнатная (как они планировали, исходя из своих материальных средств и идеи, что «одна комната гостиная, а другая спальня»), а четырехкомнатная квартира: отдельная комната для каждого из них, их спальня, гостиная. Когда же появятся дети, то либо гостиная будет превращена в детскую комнату, либо понадобится пятая комната, причем последнее станет особенно актуально, если детей будет двое. И только в случае, если их желание самостоятельности, зародившееся в борьбе с родителями за «свою территорию», будет партнером удовлетворено (у каждого своя комната с «собственным порядком»), тогда они готовы договариваться и идти на уступки, а также создавать что-то новое на «общей территории». Только признав за другим право иметь свою комнату, каждый из них смог прислушиваться к мнению и принимать интересы партнера, обсуждать то, как они могут сочетаться с собственными интересами.
Интересно, что в тех случаях, когда такого «сочетания интересов» удается достичь между родителями и их взрослыми детьми, последним не приходится «отстаивать свое» в отношениях с супругом. Молодые люди оказываются готовы к организации партнерских (равностатусных) отношений в большей мере, если они научились договариваться напрямую, без протеста и борьбы, со своими родителями.
Так получилось, например, в случае Антонины. Наши с ней встречи начались с ее запроса на преодоление трудностей в установлении партнерства с молодыми людьми. До этого они обычно доходили до этапа совместного проживания, где начинали выявляться разные привычки в быту, появлялись ссоры, и они расставались. Антонина к тому моменту уже несколько лет жила отдельно от родителей, снимая (арендуя) квартиру. Родители, однако, сохраняли ее комнату неприкосновенной. Финансовый кризис вынудил ее вернуться в квартиру родителей, и мы с ней решили сместить фокус терапии на «совместное проживание с родителями». Главная задача была – сохранить самостоятельность Антонины, одновременно организуя быт с учетом привычек родителей. Первым ее шагом было