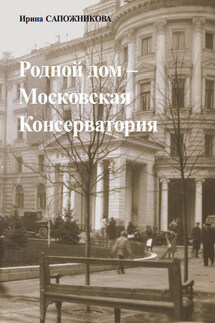Родной дом – Московская Консерватория - страница 5
К середине 1950-х гг. многие плафоны к люстрам и канделябрам в зданиях МГК разбились, и наконец наступил такой момент, когда количество потерь перешло все допустимые границы эстетики, особенно в Большом зале. Средств на выписку стекла из-за границы, само собой, не было, и отец обзвонил имеющиеся в стране стекольные заводы с просьбой принять заказ от МГК на изготовление нескольких сотен плафонов. Стекольный завод Гусь-Хрустальный согласился помочь Консерватории. Но когда отец приехал туда с европейскими образцами, ответ был отрицательным, так как подобных форм для отливки у них не было и сделать их они посчитали невозможным. С точки зрения дела для Н.Ф. понятия «невозможно» не существовало, и он сказал, что в таком случае сам изготовит нужные формы. Он задержался в командировке на неделю, сделал рисунки и лекала, по ним изготовил деревянные формы, затем помог стеклодувам быстрее отлить плафоны, упаковал их в ящики и привез на грузовике прямо в Консерваторию. Сегодня, приходя на концерт в БЗК, я испытываю особенные чувства оттого, что многие из плафонов на светильниках в виде «тюльпанов» или «факелов» сделаны в полном смысле слова руками моего отца.
Удивительно, но Н.Ф. умел собою заменить целые заводы, мастерские, отделы и пр. Помню, как в начале восьмидесятых отец вернулся из Консерватории с дежурства и спросил, почему у меня такой грустный и озабоченный вид. Я ответила, что завтра ехать с Максимом в дом отдыха на каникулы, а валенки его не подшиты. «Почему?» – спросил отец. «Да потому что не нашлось мастерской, где бы взялись за работу: в одной не было соответствующей нитки, в другой – иголки, в третьей – войлока, в четвертой – мастера и т. д.» Отец удивился, почему я ему раньше ничего не сказала – «оставь, ложись спать, я сделаю». Утром рядом с кроваткой сына стояли валенки, подшитые войлоком, с кожаными задниками, причем такими затейливыми, как будто выполненными для выставки прикладного искусства. Иголка, нитка, войлок легко сошлись за столом в руках любящего труд мастера. Так сходились в его руках многие дела в Консерватории, имеющие и не имеющие никакого отношения к его профессии и должности.
Постепенно барельеф Н. Рубинштейна над сценой Большого зала покрылся слоем густой пыли. Особенно она стала заметна над верхней губой композитора, так что на портрете создалась видимость темных усов. Нина Ивановна Малаксиано – красивая женщина и заботливый администратор Большого зала – обратилась с задачей к Николаю Федоровичу. К этому времени также назрела проблема косметической чистки портретов, карнизов и прочих объектов под потолком в БЗК. Отец был мастер решить возникающую задачку нетрадиционным инженерным путем. Он разработал способ подъема рабочего до объекта с помощью системы тросов, не прибегая к постройке обычных лесов (в настоящее время только такой способ и используется, но, кажется, он пришел к нам из-за границы). Сохранилась фотография испытания системы – отец из седьмой ложи БЗК дает какие-то указания (см. вкладку). Для Нины Ивановны он сконструировал специальную удобную «люльку» и предложил ей подняться и почистить портрет. Поскольку отец сказал, что это совершенно не опасно и что он сам будет руководить подъемом, Нина Ивановна согласилась. Она рассказывала после, что было страшно, но она пошла на это только потому, что считала своим долгом содержать Большой зал в порядке, и еще потому, что безоговорочно доверяла Николаю Федоровичу.