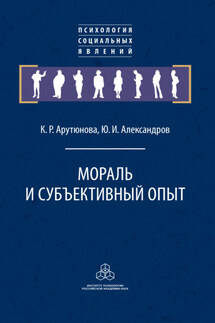Роман графомана - страница 62
Убедить народ в необходимости Автократии – на это нужны десятилетия, а поменять мировоззрение, сделать людей свободно мыслящими – столетия. Мы с Марком 1987-й год связываем с запуском «Взгляда», где власть разрешила независимость суждений. По пятницам поздно вечером страна не спала. Ждала программу. Полтора часа разговора обо всем и ни о чем всерьез. У всех на слуху имена ведущих. Из эмиграции они казались нам инфантилами, вечными юношами, полупридушенными прагматами, сотрудничавшими с властью, чтобы выжить. На глазах у целой страны в программе «Экстрасенс» нашему приятелю, сокурснику Б. прокалывают руку длинной «цыганской» иглой. При этом он сам, как ни в чем не бывало, продолжает вести программу. Удивлены не только телезрители: мы, друзья, его коллеги, знаем, что Б. панически боится любых уколов, не переносит даже малейшей боли. Его дистанционно, взглядом, обезболил гость студии, врач-психотерапевт. Модными в обществе становятся шарлатаны, выдающие себя за телепатов. Состоятельная публика лечится у знахарей. Телекинез, призраки, загадки снов, порча и сглаз, знаки судьбы – тут ищут ответы на вызов Времени. Эзотерики объясняют то, что не могут политики, ученые.
В ХХI веке поступки шестидесятников (выход в 1968-м на Красную площадь с коляской, с ребенком, протестуя против системы) кажутся экзистенциональными. Если люди шестидесятых испытывали по поводу тогдашней системы боль, люди восьмидесятых – презрение, то мы, семидесятники, оказавшиеся на рубеже оттепели и застоя – отказом участвовать, бороться и вдохновляться. Это не мешает нам теперь вытаскивать из памяти, из записных тетрадок, из архивов всякую рухлядь, составлять энциклопедии юности, отрочества, молодости.
– Рухлядь, – соглашается Марк, – но она же и память времени. Имеет право на существование.
– Меня смущает налет исключительности авторов этих энциклопедий. И им, и нам с тобой из того же поколения семидесятых к лицу, прежде всего, стыд за то, что подпирали происходившее сбоку, пассивно ждали перемен. Болтовню же на кухнях, в ресторанах, в застольях среди друзей выставлять как знаки пассивного протеста, несогласия и чуть ли не героизма в этой серости, скуке, нищете, царстве духовной лени совсем неуместно.
Помнится, это был год столетия Великого Октября, и тот диалог вызвал в памяти строки А. Тарковского: «Пока мы время тратим, споря/ На двух враждебных языках,/ По стеклам катятся впотьмах/ Колеса радуг в коридоре». Голос поэта прозвучал из 1960-го укором Той Стране. Из-за раскола нации Кремль отказался отмечать историческую дату. Восьмидесятники бравировали, что прежний Режим им тогда казался смешным. В 1990-х уже было не до смеха. В обществе царила тотальная ненависть друг к другу. Теперь они одобряли Автократа, потому что он, как им казалось, победил хаос, неуправляемость, как-то подсобрал страну. В итоге жесткая система потеряла гибкость, эластичность, закрыла возможность прихода новых людей. Восьмидесятники оказались в ситуации нас, семидесятников: они ждут новое поколение, которое придет к власти и все изменит. Не с помощью революции, а с помощью легальных инструментов участия в общественной жизни. Дурная повторяемость, не более.
Если историки обращаются к опыту шестидесятников с кардинальным вопросом, в чем они ошибались, чего не понимали, то в «Романе Графомана» этот вопрос имеет другой смысл – кто об этом пишет, кто стоит за этим повествованием. И Марк, и я. Мы оба предоставляем выбор – либо прославлять, либо осуждать, либо пробовать понять – а могло ли быть иначе после десятилетий сталинского террора. В архивном хламе Марка отыскалась курсовая работа третьекурсника факультета журналистики МГУ. Что там обнаружилось? Ничего, кроме страха, желания выжить, жажды выделиться. Ни одной стоящей мысли. Из того же хлама выпало приглашение в клуб «Дружба». Первомайский райком комсомола проводил вечер, посвященный восьмидесятилетию Пабло Пикассо. Ведущими заявлены Искусствовед и автор «Хулио», считавшийся другом Пикассо. Марк, тогдашний студент первого курса, в крайнем смущении попросил у автора «Хулио» автограф. А спустя полвека читал беспомощные тексты Искусствоведа. О чуть было не рассыпанном наборе книги, посвященной Пикассо, о преодолении запрета на простое упоминание имени Пикассо, об уловках убедить Режим, что запрет осложнит отношения с французской компартией, нанесет непоправимый вред Стране Советов за рубежом. Кстати, книга об абстракционисте-коммунисте в конце концов появилась на прилавках книжных магазинов.