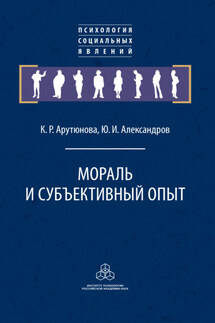Роман графомана - страница 64
Марка я огорчать моими сомнениями не стал, когда он сообщил мне, что кинулся перечитывать тургеневский «Дым». А почему бы и нет, подумал я. Русские эмигранты, когда сходились в Баден-Бадене, толковали о том же, о чем и мы. Как и наши предшественники в ХIХ веке, мы в XXI толкуем о войне, о религии, о судьбах России.
– Во времена брежневизма, – вещал Марк, – мир в России был разный, как и во времена сталинизма. Меньшинcтво гнило в психушках или гибло на лесоповалах, а большинство притворялось и продолжало шагать в «прекрасный новый мир». Когда кошмар и гибельность путинизма будут разоблачены, как был разоблачен кошмар брежневизма, притворщики ужаснутся и отрекутся, как отрекся от брежневизма Телещеголь и тысячи таких, как он.
– Но ужаснемся не потому, – заметил я, – что узнаем что-то новое, а потому, что так можно будет снять с себя ответственность за прошлое. Простой конформизм – не более. Чтобы добиться смены моральной парадигмы, нужны десятилетия. Люди часто путают собственные моральные ценности с политическими. Предполагают, что этична только та позиция, которой придерживаются они сами, исходя из своей картины мира. А «картины мира» разные, и нравственный выбор может быть противоположным, причем будучи одинаково нравственным. Взять ту же русофобию.
– Насчет «русофобии» к месту вспомнить Куприна.
Марк вытащил томик с полки и открыл страницу с закладкой и стал читать: «Помню, лет пять тому назад мне пришлось с писателями Буниным и Федоровым приехать на один день на Иматру. Назад мы возвращались поздно ночью. Около одиннадцати часов поезд остановился на станции Антреа, и мы вышли закусить. Длинный стол был уставлен горячими кушаньями и холодными закусками. Тут была свежая лососина, жареная форель, холодный ростбиф, какая-то дичь, маленькие, очень вкусные биточки и тому подобное. Все это было необычайно чисто, аппетитно и нарядно. И тут же по краям стола возвышались горками маленькие тарелки, лежали грудами ножи и вилки и стояли корзиночки с хлебом. Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему хотелось, затем подходил к буфету и по собственной доброй воле платил за ужин ровно одну марку (тридцать семь копеек). Никакого надзора, никакого недоверия. Наши русские сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были совершенно подавлены этой широкой взаимной верой. Но когда мы возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в истинно русском жанре. Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам. Всем известен этот тип кулака из Мещовского уезда Калужской губернии: широкая, лоснящаяся, скуластая красная морда, рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему нерусскому – словом, хорошо знакомое истинно русское лицо. Надо было послушать, как они издевались над бедными финнами. „Вот дурачье так дурачье. Ведь этакие болваны, черт их знает! Да ведь я, ежели подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов… Эх, сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово – чухонцы“. А другой подхватил, давясь от смеха: „А я… нарочно стакан кокнул, а потом взял в рыбину и плюнул. Так их и надо, сволочей! Распустили анафем! Их надо во как держать!“»