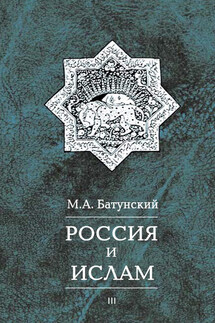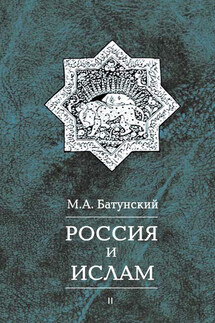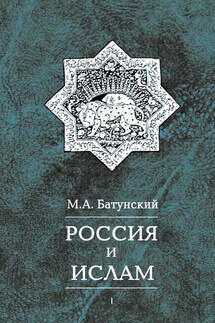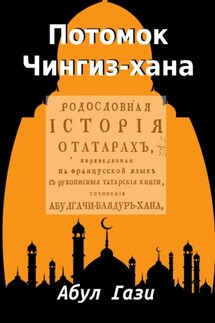Россия и ислам. Том 1 - страница 27
Противопоставление свой – чужой, продолжают В.В. Иванов и В.Н. Топоров, в том числе и в этническо-религиозном плане>112, отражено и в обычаях и ритуалах, связанных с погребением. В них различаются два вида смерти – своя и не-своя, причем умерший не своей смертью приносит вред людям; два вида покойников – свои (принадлежащие коллективу) и не-свои (иноверцы, которые трактуются как умершие не своей смертью или вообще как «нечисть»). На низшем уровне бытовых представлений и примет противопоставление свой – чужой>113 в этническом плане сохраняется в течение длительного времени>114, заполняясь конкретным материалом, актуальным для данной эпохи>115.
Но христианская апологетика ввела новые выразительные средства, прежде всего тропы: Христос – солнце, а свет, исходящий от него, – христианство; святой, проповедующий христианство, или мученик, умирающий за него, также уподобляется солнцу, оживляющему землю лучами истинной веры; святые чаще всего уподобляются звездам>116.
Будучи олицетворением «света» (христиане – «сыновья света». См.: Евангелие от Иоанна, гл. XII, ст. 36), христианство – антагонист «тьмы», символизирующей не только (так было и в языческий период) врагов – кочевников, не только (в христианский период) иудаизм, безбожие>117 и ересь, но и мусульманство>118 (метафора, воспринятая у византийцев, в частности из Хроники Манассии>119, и укоренившаяся в русской литературе>120).
Казалось, при описании «государственного врага» значительная часть языкового аппарата осталась такой же, как и в языческие времена>121, а объекты описаны в тех же терминах, что и до произведенной христианством культурной революции, и нет оснований говорить о кардинальных изменениях в основном фонде характерных для древнерусской культуры семантических противопоставлений, ибо новые понятия осмысливаются на базе уже существующих культурных ресурсов>122.
На самом же деле этот концептуальный перенос в немалой части своей метафоричен>123: вкладывая уже определенное понятие в новую, заимствованную у византийско-христианской апологетической и критической литературы языковую систему, он тем самым интегрировал его в такую сеть отношений, которая оказывалась существенно отличной от реляционного каркаса, определившего значение понятий («поганые», «идолища» и т. п.) в первоначальной, дохристианской, знаковой системе>124.
И вот здесь-то хотелось бы особо подчеркнуть, что постепенно формировавшаяся древнерусско-христианская (точнее – «христианизированная») модель ислама не была замкнутой, вечно равной самой себе и нерасчлененной монадой, совершенно автономной от конкретно-исторических контекстов и ситуаций, от воздействия инокультурных (и не только византийских) веяний.