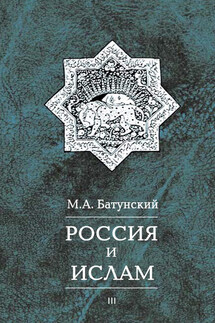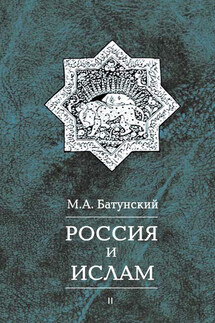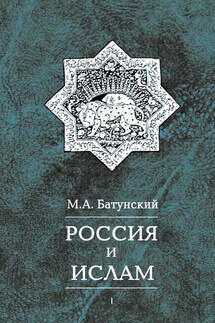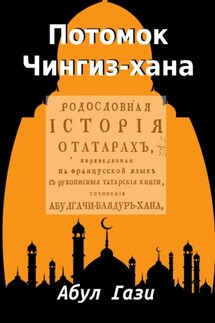Россия и ислам. Том 2 - страница 27
Вопреки тем же славянофилам – этим «чудакам», для которых «всякая наша дрянь оказывается превосходной и чрезвычайно пригодной для оживления умирающей Европы»>59, – Чернышевский выступал против воинствующего панисламизма, доказывая, что западные и южные славяне вовсе не заинтересованы в поглощении их самодержавной Россией>60, в подчинении деспотической власти царизма, в сколь бы привлекательные наряды («обновляющее варварство» и т. п.) его ни рядили.
Но полностью отрешиться от понятия «варварство» (в применении к собственному настоящему и особенно прошлому) было исключительно трудно, во всяком случае, если не по форме, то по существу, еще и потому, что российские социальные, политические и культурные структуры были «пропитаны азиатским варварством»>61.
Российским образованным людям хорошо были знакомы слова Ф.-М. Вольтера («Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre le Grand». 1759) о том, что «обычаи, одежда и нравы в России всегда сходствовали скорее с азиатскими, нежели с европейскими…»>62. Они сознавали их – если и не полную, то хотя бы частичную – истинность, что ярко сказалось, например, в едва ли не всеобщей приверженности даже самых передовых писателей, поэтов, мыслителей и XVIII и начала XIX вв. к политической и эстетической символике «азиатогенного» и «азиатоподобного» деспотизма>63.
И потому не только сущностно, но уже и торжествующе-формально «отречься от азиатского («татаро-монгольского») наследия», отречься целиком, начиная от пышной и импозантной восточной материально-бытовой культуры>64 и кончая сферой ритуальноиерархической («византийской» – опять-таки «восточной») эстетики, означало тогда и интеллектуальный и эмоциональный переход в стан «сил прогресса» во главе с Западом.
Еще статьи Н.А. Карамзина периода 1790-х годов пронизывают идеи развития, прогресса – навеянные оптимистической философией Гердера, – и потому они во многом носят снисходительный по отношению к Азии (да, впрочем, не только к ней, но «даже» к древним грекам) тон. Так, один из карамзинских героев, Филалет, возражает своему оппоненту Мелодору, склонявшемуся к пессимистической теории круговорота Вико:
«Мысли твои о вечном возвышении и падении разума человеческого кажутся мне… воздушным замком… Положим, в древней Азии были многочисленные народы, но где же следы их просвещения? История застала людей во младенчестве, в начальной простоте, которая не совместна с великими успехами наук. Даже и в Египте видим мы только первые действия ума, первые магазины знаний, в которых истины были перемешаны с бесчисленными заблуждениями. Самые греки – я люблю их, мой друг; но они были не что иное, как милые дети! Мы удивляемся их разуму, их чувству, их талантам, но так, как взрослый человек удивляется иногда разуму, чувствам и талантам юного отрока. Читай вместе Платона и Боннета, Аристотеля и Локка – я не говорю о Канте – и потом скажи мне, что была греческая философия в сравнении с нашей»