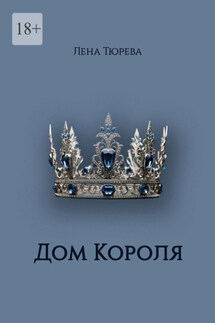Россия и мусульманский мир № 1 / 2011 - страница 25
На вопрос о том, существенно ли ухудшились показатели эффективности республиканской бюрократии в последние годы, скорее следует дать отрицательный ответ. Недостатки местной власти не обнаруживают отчетливо негативной динамики, способной провоцировать рост социальной протестности в республиканском обществе. Конечно, как и в случае с Дагестаном, необходимо учитывать фактор общественного «терпения» – с течением времени даже устоявшийся уровень «порочности» воспринимается обществом с нарастающим раздражением. И тем не менее очевидно, что протестность, аккумулируемая по данному каналу, может быть значимым, но не единственным среди ведущих факторов активизации террористической активности в республики.
Конфессиональный фактор. Исламизация Ингушетии завершилась только к середине XIX в. Постсоветский период в республике (как и на остальном Северном Кавказе) был связан с «ренессансом» ислама: быстрый рост числа активных верующих; многократное увеличение количества мечетей и молельных домов; открытие духовных учебных заведений (в том числе на средства зарубежных исламских спонсоров); появление религиозного радикализма. Однако несмотря на сопредельность Ичкерии – одного из основных плацдармов ваххабизма на Северном Кавказе, чистый ислам в 90-е годы не получает значительного развития в пределах Ингушетии (притом что попытки вербовки молодежи по линии «ваххабизма» были отмечены уже в первую чеченскую кампанию).
Идеологическое «облучение» ингушского национального сообщества с территории Чечни было продолжено во второй половине 90-х годов. И первые меры противодействия ваххабизму были инициированы не федеральным центром, но обеспокоенными ситуацией республиканской властью и местным традиционным духовенством. Летом 1998 г. их совместным решением функционирование ваххабитских организаций на территории республики запрещается. Как мы знаем, такого рода постановления далеко не всегда были в состоянии на практике остановить распространение чистого ислама. Но в Ингушетии данный указ на рубеже веков действительно «сработал». Впрочем, очевидно, что это не столько заслуга республиканской власти или показатель ее авторитета, но прежде всего свидетельство устойчивой ориентации местного населения на традиционный ислам, суфийские ценности и практику, которые ваххабиты подвергали жесткой критике. Свою роль мог играть и постоянный отток местных религиозных радикалов в сопредельную Чечню.
Ситуация определенным образом начинает меняться в начале XXI в. Исламский радикализм становится в республике идеологической оболочкой для разнообразной протестности, корни которой уходят в самые различные формы социальной жизнедеятельности. Сокращается (прекращается?) отток радикалов в Чечню. С определенного момента речь скорее может идти об обратной миграции (причем не только ингушей, но и чеченцев).
Однако показательно, что еще в 2005 г., детально фиксируя размеры ваххабитских сообществ отдельных республик Северного Кавказа, К.М. Ханбабаев (известный специалист по вопросам религии) «пропускает» Ингушетию и Адыгею, ограничиваясь констатацией того факта, что сторонники чистого ислама в этих республиках есть и они достаточно активны. Можно предположить, что проблема в том, что ингушское ваххабитское сообщество достаточно плотно интегрировано с чеченским и анализировать его собственные количественные характеристики затруднительно.