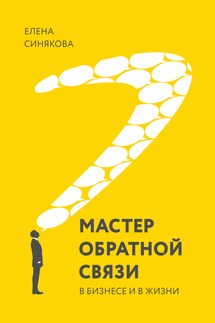Россия и мусульманский мир № 3 / 2011 - страница 13
Но это, во-первых, не значит, что в нынешних условиях невозможно проводить модернизацию. Ее начинали гораздо в худших условиях в Южной Корее, на Тайване и ряде других стран и в конечном итоге добились огромных перемен, в том числе с области политических прав и гражданских свобод. Я уже не говорю о том, что «массовые инвестиции в виде умов и рук» идут в такие страны, как Китай, где есть не демократия, а стабильность, порядок, четкие правила игры, гарантия частной собственности, личная безопасность и, разумеется, выгода. Во-вторых, почти везде и всюду модернизация начинается с экономики и при самом активном участии государства.
То, в каком состоянии ныне находится наша экономика и какие должны быть заложены принципы в сценарий ее перехода к инновационной экономике, обсуждается крупнейшими учеными РАН (академики Ж. Алферов, В. Велихов, С. Григорян, А. Дынкин, В. Ивантер, А. Макаров, А. Некипелов, Р. Нигматулин, К. Скрябин, член-корреспондент РАН Б. Кузык и др.). При этом приводятся удручающие факты и цифры нашего отставания от передовых стран.
Так, по данным Е. Велихова, Россия по уровню производительности труда в промышленности отстает от США в 10 раз, а по суммарной производительности – в 100 раз, по внедрению в промышленность компьютеров – в 1000 раз. Притом что производительность труда не растет, а падает, например, в ведущей нефтегазовой отрасли. B. Ивантер выявил такую закономерность: «Чем выше у нас добыча нефти, тем хуже состояние экономики». Б. Кузык, один их ведущих специалистов в области инновационных технологий, говорит, что по их уровню Россия откатилась на 10–15 лет назад, а на некоторых направлениях – на 20 лет. Тяжелая ситуация и с кадрами: средний возраст инженерно-технического персонала более 55 лет, рабочих – около 55 лет. Высокотехнологичный сектор сократился с 30 % в советское время до 18 % в наши дни. «С такой экономикой, – подчеркивает он, – никакого высокотехнологичного рывка не сделаешь, если он будет просто продекларирован, а продолжен инерционный сценарий развития». И тем не менее Кузык считает, что у России еще есть шанс в перспективе выйти на технологический уровень экономики, хотя это и чрезвычайно сложная задача. Для этого, по его мнению, надо выделить направления, где у нас еще остались хорошие заделы. Это авиастроение, ядерная энергетика, ракетно-космические системы и отдельные сегменты рынка наноиндустрии. Но для решения этой задачи необходимо мобилизовать кадровые, материально-техниче-ские и финансовые ресурсы. При этом Кузык наметил этапы, на каждом из которых должны решаться те или иные задачи.
А. Некипелов, по сути, дает негативную оценку экономической политике последних лет, включая налоговую политику, которая не способствует развитию производства: «Сегодня мы на практике ощущаем, сколь уязвимой по отношению к действию внешних факторов оказалась российская экономика, сколь высока цена своевременно не принятых мер по использованию на цели модернизации поступавших в Россию значительных ресурсов». Притом что средства, выделенные для борьбы с кризисом, в первую очередь пошли в банковскую систему и крупные (сырьевые) корпорации. Некипелов считает это оправданным, но в то же время говорит, что деньги должны идти в научно-производственный комплекс для стимулирования разработок и производства высокотехнологичной продукции для внутреннего потребления, на импорт современных технологий и оборудования. Он особо указал на бедственное положение прикладных исследований, подчеркнул необходимость поддерживать фундаментальные исследования, даже если «в течение известного периода их масштаб может казаться избыточным по отношению к другим звеньям цепочки наука–производство».