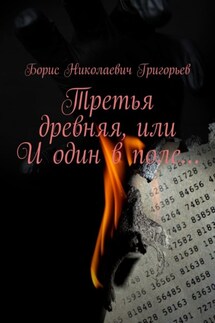Россия и Швеция после Северной войны - страница 3
Ещё одно сходство в развитии обеих стран в описываемый период – это постепенное возрастание значения в их судьбах проблем престолонаследия. Чем дальше обе страны удалялись от нашей точки отсчёта (смерть Петра и Карла), тем острее эта проблема становилась для обеих стран. Правда, в России она возникла главным образом не от недостатка законных наследников, а от сугубой ошибки царя, весьма туманно сформулировавшего правила наследования русского трона после своей смерти, в то время как в Швеции с ней столкнулись именно по причине отсутствия природных наследников шведской короны. И снова совпадение: решать эту проблему и России, и Швеции пришлось по иронии судьбы весьма схожим образом, черпая наследников из одного и того же скудного и неблагодарного источника – плодовитого голштинского или худосочного гессенского двора.
После 1725 года самодержавная Россия, творением Петра I превратившаяся в страну европейского значения лишь номинально, а вернее, только в военном отношении, ещё должна была подтвердить или хотя бы не утратить этот свой статус. Встреча России через прорубленное окно с Европой была не такой уж и дружественной. Во всех европейских столицах смотрели на Санкт-Петербург с подозрением, недоверием, ревностью, страхом и завистью, не говоря уж о поверженном Стокгольме.
Лишившаяся своего великодержавия Швеция во главе с конституционным монархом, всесильными правительством и парламентом, не дожидаясь окончательного оздоровления уставшей от войны страны, взяла курс на реванш Ништадтского мира 1721 года и возвращение балтийских провинций силой оружия. Эта реваншистская политика шведского дворянства продлила противостояние бывших противников минимум ещё на 75 лет.
Россия старалась не обострять со Швецией отношения, принимала меры к поощрению в стране и в правительстве мирных настроений, но продолжала пристально следить за тем, чтобы война не застала русскую армию врасплох. Как ни странно, абсолютистская Россия, опираясь на положения Ништадтского мира, пыталась играть роль гаранта конституционно-монархического строя в Швеции. Под этим предлогом она довольно часто пыталась вмешиваться во внутренние дела Швеции и тем самым ещё больше разжигала антирусские настроения шведов.
Свои реваншистские планы правительство Швеции, опираясь на союз с Францией, связывала с надеждой на российскую смуту и российскую государственную неустроенность. В свою очередь, Россия использовала противоречия между «благонамеренными» шведами, которые оформились потом в партию «колпаков» или «шапок», и их противниками – партией «шляп» – и пыталась «окоротить» агрессивные планы шведов.
Правительство Арвида Хорна в значительной степени консолидировало внутри- и внешнеполитическое положение Швеции и гарантировало некоторую стабильность и поступательность развития. Шведский историк Л. Ставенов полагает, что эпоха Хорна, полная энергии и надежды, была самой счастливой в истории страны. Страна, по его мнению, довольно быстро преодолела последствия поражения в Северной войне, Хорн быстро уводил шведов от переживаний прошлого к новому мирному строительству. Занимая в целом реалистичную по отношению к России позицию, Хорн с некоторыми, правда, существенными оговорками, считал необходимым поддерживать с ней дружеские добрососедские отношения.
Люди же, пришедшие ему потом на смену (Юлленборг, Хёпкен), подобные тем, которые стали у руля России при Екатерине I и Петре II (Меншиков, Долгорукие), были больше озабочены своими групповыми интересами и достижением личных амбиций, что не отвечало естественным интересам Швеции и отбрасывало их в своём развитии назад. И это тоже на первых порах являлось общей чертой внутреннего и внешнего положения России и Швеции. Главной же доминирующей чертой во взаимных отношениях русских и шведов было глубокое недоверие друг к другу. Забегая вперёд, отметим, что Россия своё недоверие к бывшему противнику преодолела легко и быстро, в то время как шведы не смогли это сделать вплоть до XXI века.