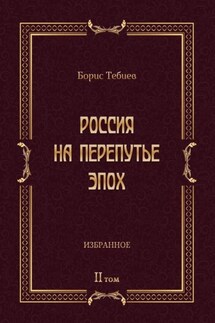Россия на перепутье эпох. Избранное. Том I - страница 38
Для знакомившихся с учением Мальтуса российских экономистов первоначально представлялось очевидным, что теория народонаселения не является актуальной для нашей страны с ее огромными жизненными пространствами, что это «чисто английское» восприятие действительности. Такова, например, точка зрения на мальтузианство журнала «Сын Отечества», опубликовавшего в 1818 году короткую рецензию на вышедшее в Лондоне пятое издание книги Мальтуса «Essay on the principle of population» [24].
Дальнейшее развитие российской экономики вынуждало авторов, и в первую очередь экономистов, подойти к рассмотрению теории Т. Р. Мальтуса более углубленно, с учетом общих тенденций капиталистического прогресса. Примером такого подхода может служить отзыв о Мальтусе известного деятеля декабристского движения и литературного общества «Арзамас», участника войны 1812 года Михаила Федоровича Орлова (1788—1842). В своей работе «О государственном кредите», опубликованной в 1833 году, Орлов писал, что сочинение Мальтуса есть одно из тех, которые только при первом чтении невольно возбуждают против себя негодование читателя, но потом принуждают его согласиться с заключенными в нем истинами.
«Филантропические писатели нынешнего времени, – отмечал Орлов, – наводнили общество столь большим количеством безотчетных утопий об общем благоденствии, о равенстве, о златом веке, приготовляемым вселенной постепенным усовершенствованием рода человечества, что всякая строгая истина, не согласная с возбужденными страстями и надеждами, находит в глубине сердца нашего недоверчивость и сопротивление. А сочинение Мальтуса исполнено самых грубых приговоров, самых строгих истин. Как? Народонаселение, о котором все правительства до сих пор так пеклись, есть причина всех бедствий наших? Читайте Мальтуса, не его вина, что природа не согласила этот закон пропитания с законом населения… Как? Все благомыслящие писатели проповедуют благосостояние всех и каждого, а Мальтус противится сим филантропическим видам и утверждает, что богатство должно сосредотачиваться в нескольких руках, а бедность должна быть уделом остального множества? Не его вина, ежели по естественным законам неравенство состояний есть неизбежное последствие наших образованных обществ. Как? Мы привыкли с самого младенчества думать, что чем более благосостояния уравнены в государстве, тем более оно благоденствует, а Мальтус уверяет, что такое уравнение состояний должно непременно привести государство в упадок? Еще раз, не его вина, ежели общества наши так составлены, что при равном разделении богатств все были бы не равно богаты, а равно бедны» [25].
Не трудно заметить, что в цитированном выше отрывке Орлов не только делает попытку достойно оценить теорию Мальтуса как «строгую истину», но и высказывает серьезный упрек в адрес зарождавшихся социалистических и коммунистических «безотчетных утопий об общем благоденствии». Стоя на почве реального экономического знания, Орлов был далек как от иррационального восприятия действительности, так и от излишней сентиментальности, не позволявшей Одоевскому и некоторым другим, родственным Орлову по общим гуманистическим воззрениям людям той эпохи, смотреть в глаза исторической правде и оценивать окружающую действительность с точки зрения объективных законов экономического развития.
Развернутую критику социалистических учений дал в своей работе «Опыт о народном богатстве, или О началах политической экономии», вышедшей в 1847 году в Петербурге в трех томах, А. И. Бутовский. Его книга являлась первым обширным курсом политэкономической науки, написанным русским и на русском языке. В этом сочинении автор высказал свою откровенную приверженность традициям Ж. Б. Сэя, Ш. Дюнойе и манчестерской школы.