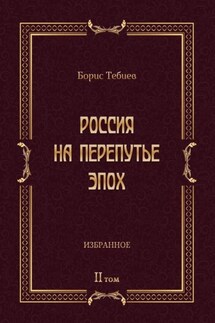Россия на перепутье эпох. Избранное. Том I - страница 37
В большей части России у крестьян-земледельцев, писал Бунге, существует общинное владение, исключающее личную поземельную собственность и делающее не только владение землей очень шатким, но и каждый договор, касающийся пользования землей, лишенным твердого основания, так как на земли, отведенные в пользование, нет никакого документа. Вследствие этого русский землевладелец, с одной стороны, не привязывается к земле, владение которой ему и его семейству не обеспечено: землю у него по общественному приговору всегда могут отобрать, а с другой, – под влиянием общинного владения, у крестьян формируется убеждение, что в случае недостатка в земле правительство обязано их наделить или из своих, или из помещичьих земель. «Таким образом, – констатировал ученый, – общинным владением и переделением в корне подрывается понятие о праве не только на землю, но и на то, что в нее положено и затрачено труда и капитала, а обязательным наделением подрывается понятие о том, что человек имеет право лишь на то, что он приобрел своим трудом» [20].
Стоявшие на почве реальности представители отечественной экономической науки неоднократно отмечали неосуществимость и вредность социалистических мечтаний, отсутствие в обществе каких-либо объективных предпосылок для их реализации. Они вели активную полемику с социалистами, как по общетеоретическим экономическим проблемам, так и по частным вопросам хозяйственной практики. Видя в социалистах известных союзников в критике феодальных пережитков, ученые-либералы принципиально расходились с ними по многим важнейшим проблемам общественного прогресса.
Важно отметить, что критическое восприятие российскими экономистами социалистических доктрин было во многом подготовлено не только глубоким осмыслением основных идей экономического либерализма, но и теории народонаселения Т. Р. Мальтуса, утверждавшего о наличии объективной жесткой зависимости роста населения от продовольственных ресурсов общества.
Как известно, непосредственным поводом для появления на свет книги Мальтуса «Опыт о законе народонаселения» (1798) стало стремление автора опровергнуть доводы утопического социалиста конца XVIII века У. Годвина, выступавшего с критикой частной собственности как источника всех социальных бедствий. Защищая идею частной собственности на основе сформулированного им закона, Мальтус утверждал, что «главная и постоянная причина бедности мало или вовсе не зависит от образа правления или от неравномерного распределения имущества», и, что «не во власти богатых доставить бедным работу и пропитание, поэтому бедные по самой сущности вещей не имеют права требовать от них того и другого» [21]. Убежденный противник любых форм социального иждивенчества, Мальтус считал недопустимыми всякие попытки побороть нищету, прибегая к государственным субсидиям или к частной благотворительности. Такие попытки, по его мнению, не только обречены на неудачу, но и значительно ослабляют необходимость для каждого заботиться о себе самом, отвечать за свою непредусмотрительность [22].
Учение Мальтуса вызвало в России, как и во многих европейских странах, неоднозначную реакцию. Оно имело в нашей стране как восторженных поклонников, свидетельством чего стало избрание английского экономиста в 1826 году иностранным Почетным членом Петербургской Академии Наук, так и резких, непримиримых критиков, находивших его идеи «кощунственными» и «антигуманными». Среди наиболее авторитетных противников Мальтуса был известный деятель русской культуры педагог-гуманист В. Ф. Одоевский. Мальтуса и его учения он расценивал как «последнюю нелепость в человечестве» и считал, что «по этому пути дальше идти невозможно» [23].