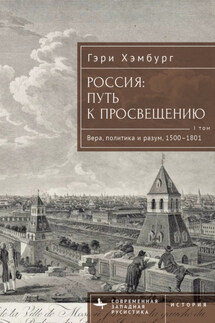Россия. Путь к Просвещению. Том 1 - страница 46
Идеи Пересветова нелегко поддаются интерпретации. Зачинатель русского марксизма Г. В. Плеханов охарактеризовал идеал политической справедливости Пересветова как «турецкий деспотизм». По мнению Плеханова, Пересветов почерпнул свое видение царской власти не на европейском Западе, где власть короны сдерживалась «естественной свободой» дворян-собственников, а на Востоке, где монархи смотрели на подданных как на рабов. Идеи Пересветова Плеханов счел симптомом «восточной складки» московского общества: «По мере того, как историческое развитие раздвигало пределы власти московского государя до той широты, какая свойственна была соответствующей власти в восточных “вотчинных монархиях”, московская общественная мысль все более и более приобретала восточную складку» [Плеханов 1925: 152–153, 160, 164–169]. В суждении Плеханова, конечно, есть доля правды: как мы видели, Пересветов восхищался османскими институтами и политическими добродетелями, и в сравнении со своим представлением о них оценивал положение дел в Москве. Однако Пересветова не следует принимать за апологета Османской империи и тем более за проповедника деспотизма. Он был традиционным мыслителем во многих отношениях. Он восхищался Сильвестром и Адашевым, и многие из его предложений не выходили за рамки тех, которые обсуждались в Избранной раде. Конечно, он ненавидел порочных бояр и хотел, чтобы их влияние снизилось, но не выступал категорически против существования их как класса. Фактически, суть его неявного требования заключалась в том, чтобы московские вельможи жили добродетельно, как, по его мнению, жила османская знать. Добродетельным поведением бояре должны были продемонстрировать достоинства и заслуги, которыми следовало обладать представителям власти. Представление Пересветова о правосудии принципиально не отличалось от идеи справедливости, отстаиваемой иосифлянами. Даже его настойчивое требование, чтобы суды были инструментом достижения истинной справедливости, можно интерпретировать как традиционную византийскую позицию. Оригинальной идеей Пересветова можно счесть его мысль, которая, при условии широкого распространения, могла бы поразить многих русских, особенно священнослужителей, – убеждение, что вера менее важна, чем правда, а также пример Османской империи для иллюстрации его «истинности». Тем не менее даже при своей кажущейся еретичности мысль о том, что в глазах Бога правда выше веры, можно понять как переформулировку новозаветного утверждения о том, что любовь – бо́льшая из всех добродетелей, превосходящая даже веру и надежду (1Кор 13:13).
Согласно интерпретации Лихачева, Пересветов был сторонником «последовательной и постепенной секуляризации, обмирщения всей жизни», противником «церковного провиденциализма», рационалистом, который считал, что «сам человек творит свою судьбу, а Бог только «помогает» тем, кто стремится ввести в жизнь «правду» – справедливость и разумность. По мнению Лихачева, Пересветов был также бескомпромиссным сторонником централизации власти, яростным критиком боярства и «феодальной раздробленности» Московского государства, поборником интересов служилых дворян. Наконец, Лихачев рассматривает творения Пересветова как свидетельство «культа разума» и книголюбия, которые в Московском государстве XVI века выражали «общий подъем веры в разум», характерный для культуры Европы эпохи Возрождения [Лихачев 1945: 170, 173]