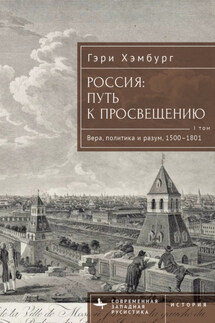Россия. Путь к Просвещению. Том 2 - страница 60
Однако Фонвизин мог внести свой вклад в разработку предложения 1783 года тремя способами. Во-первых, он, вероятно, убедил Панина мыслить скорее в терминах политической свободы, чем институциональных преобразований. Как мы уже отмечали, в своих письмах к Панину из Франции 1777–1778 годов Фонвизин сопоставляет наличие законодательных политических свобод французов и отсутствие таковых в России. Он понимал, что русские де-факто пользуются большей свободой, чем французы, но логический вывод, который Панин, вероятно, сделал из писем Фонвизина, состоит в том, что в России следует правовым порядком гарантировать существующие свободы и даже расширить их. Отметим также, что проект основных законов 1783 года был задуман как составная часть долгосрочной программы политических реформ. В краткосрочной перспективе существующие вольности были бы обеспечены защитой Сената, избираемого из дворян, и усилиями по ограничению деспотизма, что Михаил Фонвизин впоследствии назвал «твердыми аристократическими институциями». Но план предусматривал также постепенную отмену крепостного права. Освобождение крестьян логически вытекало из высказанного Фонвизиным в «Рассуждении» тезиса о том, что хорошее управление несовместимо с рабством. Как считал М. Фонвизин, освобождение крестьян было одной из прямых целей конституционного проекта [Фонвизин 1982: 127–128]. Таким образом, Денис Фонвизин, вероятно, склонял Панина к тому, чтобы создать долгосрочный план по превращению России в страну, где политическими правами могли бы пользоваться не только дворяне, но и представители других социальных сословий, возможно, даже освобожденное крестьянство. Поскольку в записках Павла не упоминается отмена крепостного права, очевидно, что она была в краткосрочной перспективе политической задачей Фонвизина, а не Панина.
Во-вторых, Фонвизин, вероятно, отвечал за религиозную составляющую предисловия к конституционному проекту. Как мы видели при анализе панинского проекта Императорского совета 1762 года, Панин называл императрицу исполнительницей воли Божией, но не пытался объяснить благое правление подражанием божественным добродетелям. Но этот вопрос интересовал Фонвизина, когда он переводил «Иосифа» Битобе, «Слово похвальное Марку Аврелию» Антуана Леонара Тома и другие произведения. Эта заинтересованность проистекала из его морализма, уходящего корнями в «Басни» Хольберга. Как мы видим, концепция «просвещения» Фонвизина представляла собой гибрид религиозных и светских побуждений. Именно такое сочетание мы и наблюдаем в «Рассуждении».
В-третьих, Фонвизин, вероятно, настаивал на том, чтобы в обоснование конституционного проекта Панин включил теорию общественного договора. Конечно, Панин одобрял захват власти Екатериной в 1762 году и считал, что во внутренних делах России сила имеет большое значение: его брат Петр сыграл большую роль в подавлении Пугачевского бунта. Однако нет никаких свидетельств в пользу того, что Никита Панин, по крайней мере в 1760-е годы, придерживался теории общественного договора по Локку или Руссо. Как и Екатерина, Панин черпал вдохновение в политических теориях Монтескьё и немецких камералистов. Он восхищался хорошо устроенными государствами, в которых вольности дворянства уравновешивали полномочия монарха, а государственные функции были четко разграничены. Фонвизин, со своей стороны, тяготел к Руссо, о чем свидетельствуют его письма из Франции 1777–1778 годов. Мы не знаем, читал ли Фонвизин «Общественный договор» Руссо, но, безусловно, он читал другие его произведения. Томас Барран показал, что автобиографический фрагмент Фонвизина 1778 года, «Чистосердечное признание», опирается на «Исповедь» Руссо и на его же «Исповедание веры савойского викария». Барран также предположил, что «Недоросль» (который мы проанализируем ниже) испытал влияние пятой книги «Эмиля» Руссо. Однако Барран также утверждает, что в своем обосновании права на сопротивление неправедному правителю Фонвизин в «Рассуждении» не следует логике «Общественного договора» Руссо, поскольку, по мысли Руссо, народ никогда не отдает суверенитет государю и не может допустить слепого «подчинения» правительству. Наконец, Барран отметил, что Руссо утвердил Фонвизина в мнении о том, что гражданин вправе критиковать деспотическое правительство [Barran 2002: 110–119]. На мой взгляд, значение Руссо для Фонвизина заключалось в том, что он подчеркивал центральную роль народа в санкционировании политического устройства, то есть самого существования государства. Фонвизин пошел дальше Руссо, отвергнув принуждение или «силу» как политическую стратегию, за исключением случаев, когда народ управляется неправедным государем. Фонвизин был, безусловно, более радикален, чем Панин, который в целом более сдержанно относился к значению общественного в политике и который до 1783 года не решился бы поддержать право народа на свержение деспотического режима.