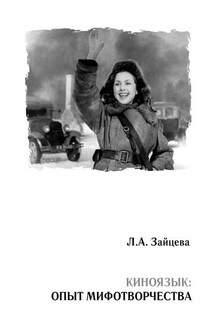Российский кинематограф 90-х в поисках зрителя - страница 2
А. Рогожкин и А. Балабанов, мастера, в сущности, одного поколения, очень активно в этот период осваивают действительность как материал, требующий беспристрастного авторского анализа и бескомпромиссных оценок. Однако, если А. Рогожкин более основательно пробует разобраться при этом с возможностями собственно кинематографа, разных способов анализа действительности за счёт сюжетного, жанрового своеобразия, способов реализации художественного образа среды экранного действия, что более отчётливо проявится в его следующих картинах («Блокпост», 1998, «Кукушка», 2002…), то для А. Балабанова более характерна по-своему изысканная однонаправленность обличающей тональности, мастерский анализ подробностей с точки зрения негативного восприятия действительности. Этим рано ушедшим из жизни мастером резко и однозначно рассказано о катастрофической «эпохе перемен», в которую ему было отпущено судьбой реализовать в художественных образах своё личностное представление о действительности.
Ещё более жёсткие сюжеты, анализирующие сложившуюся ситуацию, приходятся на воссоздание подробностей войны. Видимо, для мастеров, которые обращаются к нравственным проблемам современного человека, более открытыми и максимально обострёнными условиями проявления характеристики наступившего времени оказываются именно такие обстоятельства.
В ряду подобных произведений отдельного разговора заслуживает картина «Дамский портной» (1990, реж. Л. Горовец).
Редкий случай для экрана 90-го, где речь идёт о событии времени Великой Отечественной войны, всего об одной из знаковых страниц её истории – трагедии Бабьего Яра, когда были уничтожены тысячи мирных граждан. Ничто не могло спасти этих бессмысленных жертв: от детей, только ещё начинающих жить, их матерей, впервые испытавших радость взросления собственного ребёнка, до мирно стареющих, никому не приносящих тревог, тихих от природы мастеров совсем негромкой профессии и как-то не ожидающих зла, враждебности от людей.
Почему же именно такой сюжет всплыл вдруг на экране 90-го? И. Смоктуновский в главной роли мудро и проникновенно рассказал о судьбе прожившего тихую жизнь человека, оказавшегося в плотном потоке таких же безвинных людей, покорно и почти не понимая своей участи, идущих к Бабьему Яру…
Может, по-своему некорректно рассматривать этот момент в истории кинематографа начала 90-х, столь отчётливо и однозначно совершившего разворот от традиционного для советского экрана киногероя к человеку потерянному, утратившему потребность выхода из замкнутого пространства, способность контакта с окружающими. Чаще всего и не ищущего выхода, а тихо и безнадёжно «плывущего по течению»… И в «Астеническом синдроме», и в «Карауле» или «Грузе-200», и даже в «Дамском портном», где безликая враждебная сила гонит в смертельную пропасть Бабьего Яра огромную массу людей, целый народ, подвергнутый унижению и истреблению.
Стоит, наверное, напомнить, что в своё время поэт Е. Евтушенко написал поэму «Бабий Яр». Так вот тогда, в условиях «оттепели» автор даже услышал отдельные упрёки – в излишней трагичности, в безысходности образного звучания поэтического текста. Фильм «Дамский портной» с пониманием и сочувствием к героям картины, к народу, подвергнутому истреблению, оказался востребованным в контексте 90-го года…
Эти произведения начала периода стали своего рода точкой отсчёта явлений, характерных для целого десятилетия 90-х, – с его негативным восприятием жизни, угасающей на глазах энергией сопротивления обстоятельствам. Со всё более замысловатыми сюжетами, анализирующими реальную ситуацию. Какую бы модель исторического времени ни привлекла картина 90-х, логика событий, развитие действия, оказалось, непременно приводили к ситуации, характерной именно для анализа происходящего сегодня, сейчас.