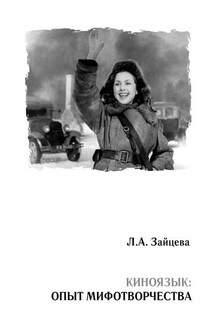Российский кинематограф 90-х в поисках зрителя - страница 9
«Любовь» В. Тодоровского, напротив, со всей тщательностью, с детальными подробностями прорисовывает быт, среду обитания молодых героев именно начала 90-х годов. Здесь документальности материального мира, предметной среде, «вещной» атмосфере (а это, как скоро выяснится, отличительный признак стилистики анализа обстоятельств экранного действия в картинах молодых, на словах отрицающих «папочкино кино») уделено непомерно большое внимание. Погруженность в быт молодых героев отличает манеру самого, наверное, представительного из мастеров молодёжного кино. В реалиях этого быта – речевой камертон картины.
Приятели – студенты (акт Е. Миронов, Д. Мадянов) существуют по сложившимся стереотипам, вольно распоряжаясь своей собственной жизнью. Один, как может, обустраивает загородный более чем скромный быт родителей. Другой предпочитает иждивенчество при обеспеченных подружках… Задав параметры анализа, автор переключает камеру на, казалось бы, банальную, однако вполне неоднозначную ситуацию. Первый, поддерживая едва знакомую девушку в сложной, оскорбительной для неё ситуации, погружается в отчаянную, хотя и бессильную борьбу. Сам не слишком отчётливо понимая, восстаёт против конкретного зла, оказавшегося злом «вселенским».
Семья его девушки предпочитает покинуть страну. Понимание необратимости безликого зла, его бессмысленные выкрики в телефонную трубку, – как раз та самая характеристика времени, доставшегося молодым… Так, даже самые первые сопоставления картин начала 90-х позволяют выявить особенности этого переломного момента.
Конечно, нельзя забывать и о том, что именно в это время катастрофически рушится кинопроизводство: до продюсерской системы оно ещё не созрело, а старая модель руководства уже не работает. Отпадает от единого кинопроцесса такая его важнейшая составляющая, как прокат. Площадкой просмотров и обсуждения фильмов становятся своего рода «мини-фестивали», существенно оградившие доступ картин к массовому зрителю. Тем не менее, такие контакты автора с киноаудиторией дают всё-таки возможность говорить о некоторых особенностях обновления киноотрасли, о переходном времени.
Прежде всего, о чём уже упоминалось, речь должна идти о принципиально разных по содержанию потоках. Один акцентирует внимание на негативных сторонах жизни, иронично и отстранённо формируя неприятие сложившихся реалий. Этот поток, быстро набирая темп, обращён к демонстрации тёмных её сторон. Утверждаясь в настроенности на негатив, на раньше недоступные экрану подробности существования человека, он всё ускоряет обороты, успешно изыскивая средства для постановки десятков таких сюжетов.
Однако неизбежно повторяясь, а потому, утрачивая к себе интерес, сама эта тенденция вынуждена обновлять, множить шокирующие атрибуты современности. Так, романтизация «воровской» тематики сменяется интерьерами психбольницы, уже в следующем году занимающими пространство кадра в картинах, в основном, молодёжного крыла нового кино. Затем на ведущие позиции устремляются подробности сексуального спектра обыденной жизни («Резиновая женщина»), бесовская тематика («Неизвестный с хвостом»)… Кажется, этому движению не будет предела… Однако до массового проката большинство таких фильмов не доходит.
Надо при этом внимательней присмотреться к тому, что же происходит на другом, противоположном крыле кинопотока.
Достойные картины, оказывается, занимают не столь внушительное пространство в кинопроизводстве, однако продолжают время от времени появляться, не давая пропасть кинематографу как явлению искусства. И как раз в них идет процесс обновления языка. Именно этим, а не броскими эпатирующими названиями они по сей день привлекают к себе внимание. «Дамский портной» и «Астенический синдром», «Облако-рай» и «Цареубийца», «Бесконечность», «Любовь»… Не так уж мало. Такие картины достойно берут на себя задачу сохранения, разработки перспектив становления российского киноэкрана.