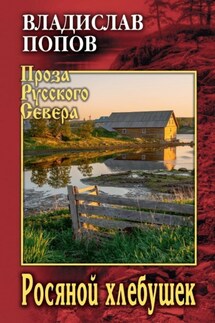Росяной хлебушек - страница 38
– Тут немного, Феденька, чекушечка, но зато какая – чистая, как слеза комсомолки!
Фёдор улыбнулся, уселся на колоду. Спина от частых наклонок привычно гудела. Мироныч достал раздвижные стаканчики – «из Германии, Феденька!» – и они выпили. Ветер стих. Жёлтые листья тополей на траве и на тропинке перестали задирать свои тёмные края и тяжело перелётывать на новое место. Городок за дощатым сараем, за белой церковной стеной просыпался и наполнялся, как водой, далёкими голосами и шумом машин. Но здесь ещё было спокойно, и лишь галки царапали когтями железную крышу. Мироныч улыбался, поглядывал на Фёдора: ему хотелось поговорить, но Фёдор по своей досадной привычке молчал, навалившись плечом на стамяк ворот. О чём он думал, Мироныч не знал, а расспрашивать не решался.
– Спина разболелась, – наконец сказал Фёдор, заметив, что Мироныч исподтишка его разглядывает.
– Ты, Иваныч, в деревне-то у себя был? Каково там? – спросил Мироныч.
– Не был я там! – солгал Фёдор. – Да и что там? Дома нет, никого нет. Тут хоть работа какая, дров наколоть, снег убрать, печь истопить, за тобой, ледящим, присмотреть. Чего жаловаться? Плесни-ка в стаканчик – ведь праздник сегодня!
– Какой праздник-от, Иваныч?
– Эх, ты, стара голова! Поднесенье сегодня! – засмеялся Фёдор. – Знамо, какой праздник. Лей, знай!
Самогонка булькнула о дно стаканчика. Фёдор встал, распрямил плечи, выпил.
– Спина прозябла – остывать стал. Давай, Мироныч, поколем ещё мальца дровишек, а то Настенька заругается.
– Ну, ты сказал – заругается! Да она со своим музеем за тобой, как за каменной стеной, Феденька.
Мироныч дососал, вытягивая пупырчатую шею, последние капли из стаканчика и стал собирать с земли поленья.
– Давай коли! А я укладывать буду, чего без дела-то сидеть!
Они принялись работать. Мироныч, поднимая каждое полено, вздыхал:
– Вот ведь как, Феденька! Дом-от был, люди жили, думали, богато будут жить. Долго. Радовались чему-то. А вот и нет дома, на дрова распилили, к нам в музей привезли, и ты его в печке стопишь. Всё их счастье дымом станет. Глянь-ко, гвоздик какой кованый вбили, крепкий. Знать, висло на нём чего-то. Супонь какую вешали, пальтушку. Гвоздик-от на, выбей да Насте снеси – много у ней гвоздей старинных, а вот такого, быват, и нету.
– Давай сюда! – нетерпеливо сказал Фёдор.
– Нет уж, сам снесу, – пошёл на попятную Мироныч, вытаскивая гвоздь. – Знаю тебя, выбросишь! Монетку, что в прошлый раз нашли, так и посеял?
– Не посеял. На подоконнике лежит.
– Лежит! Соврёшь – недорого возьмёшь.
Мироныч всегда после третьей рюмки становился ворчливым и недоверчивым стариком, Фёдор к этому привык и не обращал внимания. Но работалось уже не так. Слова Мироныча о старом доме разбередили его. Деревня, которую он оставил уже, почитай, пять лет назад, так и стояла перед его глазами. Он уже не подхватывал чурку как попало, а рассматривал её, будто искал, выглядывал какие-то особые знаки, способные рассказать о прежних хозяевах порушенного дома, но не находил их. Старое, щелястое дерево молчало. Топор бил коротко и сильно, откалывая лёгкие, пахнущие скипидаром поленца. Прыскали в холодную землю щепки. И Фёдору всё казалось, что он бьёт по живому, наконец он не выдержал, вбил топор в колоду и сказал:
– Всё, Мироныч, наработался. Сил нет. Осталось чего от твоей слезы?
– Чуток ещё есть, Иваныч! – Мироныч давно заметил какую-то, как ему показалось, недобрую перемену в Фёдоре, и потому обрадовался, когда Фёдор вспомнил про самогонку. – Гвоздь-то возьми!