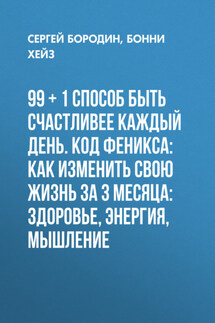Рубакин Николай Александрович. Хрестоматия - страница 37
Во-первых, литературу интимную, литературу личных переживаний, литературу разных и всевозможных индивидуальностей, типичной представительницей которой могут служить произведения изящной литературы, а также произведения некоторых других изящных искусств (в особенности музыки); во-вторых, литературу социальной среды, регистрирующую и оценивающую ее явления, – литературу той общественной атмосферы, в которой мы все рождаемся, растем и действуем, которою мы все дышим, в которой нередко задыхаемся; и, наконец, литературу среды космической, регистрирующую и оценивающую явления природы (органической и неорганической). В произведениях, относящихся к первому типу литературы, несомненно, преобладает настроение. Именно их она регистрирует и оценивает. В литературе третьего типа, напротив, преобладает знание, и идеал этой последней – объективное, беспристрастное знание, регистрирующее факты и оценивающее лишь достоверность их и правильность их сообщения, а также выводов из этих последних.
Литература социальная занимает промежуточное положение между этими последними: не лишенная настроения, она вместе с тем стремится к объективности. Что касается до понимания, то в лице исторической и экономической науки, а также статистики и некоторых других научных дисциплин, как уже было замечено выше, оно во все времена, всегда и всюду представляло собой не что иное, как «слугу настроения», и если объективное изучение всего существующего является идеалом и понимания, то лишь в области литературы космической идеал этот достигается в удовлетворительной степени; в литературе же социальной и интимной до этого последнего очень далеко. Понимание – та связка, которая охватывает собой все три литературы и соединяет их в единое целое силою человеческого суждения, с точки зрения ума, потребностей, запросов и интересов человеческой личности.
Распределение всех книжных богатств по вышеперечисленным трем типам литературы имеет не только теоретическое, но и практическое значение. ‹…›
‹…› Даже самое понятие – «работник книжного дела» – понятие очень общее, и в него входят самые разнообразные категории не только профессионалов-работников – библиотекари, книгопродавцы, издатели и авторы, с одной стороны, а с другой – все распространители книг, и среди них прежде всего учителя, учительницы, члены просветительных обществ и других просветительных учреждений, земские деятели и т. д., вообще работники самых разнообразных категорий. Можно ли предъявлять требования, изложенные в этой книге, в одинаковой степени к представителям всех этих пестрых категорий? Да и нужны ли столь детальные книжные и философские знания, о каких дальше будет идти речь, всем работникам книжного дела, напр., книгопродавцам, приказчикам книжных магазинов и т. п.? На этот вопрос, думается нам, не может быть иного ответа: «могий вместити, да вместит». Всякое знание, всякое сведение о книгах, находящееся в распоряжении человека, пользующегося так или иначе книгами, не может не пригодиться. Чем больше у него таких знаний, тем больше у него силы. Но, разумеется, не о максимуме знаний в данном случае нам приходится вести речь, а о необходимом минимуме их. Бесспорно, разные категории работников книжного дела для его целесообразного совершения требуют разной степени книжной подготовки. Некоторые работники могут делать свое дело недурно и с меньшей подготовкой, чем какая требуется от работников других категорий. ‹…› Несомненно большие сведения о книгах, в особенности же народных детских и популярных и даже научных, должен иметь каждый народный учитель, каждая учительница, и именно сведения, касающиеся книжного содержания, их внутреннего, идейного характера, сведения о месте, занимаемом данной книгой в истории литературно-общественных и научно-философских течений. Литература злободневная, текущая должна быть хорошо известна этой категории работников книжного дела, тоже и всем другим общественным деятелям, принимающим маломальское участие в общественной жизни, если они в нее хоть немножко вдумываются и не желают окончательно быть ее пешками. Всякий мыслящий человек должен вырабатывать в себе творца жизни, по крайней мере в той области, в которой ему приходится работать. Без знакомства с книжными богатствами человечества немыслима никакая творческая работа в более или менее крупных размерах. Для всех таких работников не должно быть и речи о каком-либо минимуме книжных знаний. И всем им мы говорим: не жалейте ни времени, ни труда, чтобы ими запасаться. ‹…›