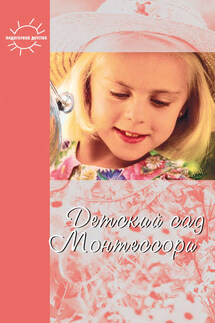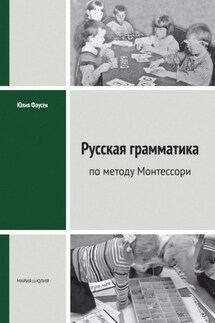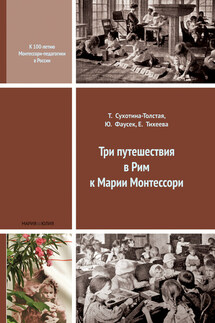Русская грамматика по методу Монтессорий - страница 6
Я заметила во многих случаях, что при первых попытках в штриховании ребёнок (маленький) не может сидёть долго за этим упражнением: мускулы его руки быстро утомляются, и он или оставляет работу совсем или занимается ею с перерывами. Все малыши, начинающие штриховать, сильно нажимают карандаш, причём он часто ломается, и рука, его держащая, напрягается: мускулы пальцев ещё очень слабы, и в них нет необходимой для этой работы координации. Но работа сама по себе очень увлекательная, и ребёнок возвращается к ней непрерывно по доброй воле. После нескольких упражнений он отдаётся ей все с большим спокойствием и удовольствием и все дольше и дольше, просиживая за ней зачастую по часу и больше, о чём свидётельствуют мои записи в детских дневниках.
Например, «1917 год, 13 февраля. Ирочка 3,5 года. Взяла железную вкладку – трапецию, обвела карандашом (по моим указаниям) и вкладку, и отверстие в рамке. Я показала ей, как надо штриховать, вложив ей в ручку карандаш и сделав её рукой несколько штрихов. Она быстро высвободила свою руку из моей и принялась за работу самостоятельно. Перед ней лежали два карандаша: красный и синий. Она брала попеременно то тот, то другой и покрывала бумагу коротенькими, неправильными штришками, выезжающими за контур. Я притронулась к её руке, рука была напряжённая, твёрдая, как железная. Девочка оставляла от времени до времени работу, бродила по комнате и вновь принималась за неё. Через некоторое время (в общем, минут 20) она отдала мне листок, измазанный красными и синими штришками в разных местах и внутри, и вовне контура трапеции».
Наблюдая и сличая множество детских рисунков этого рода, мы видим, как расходящиеся во все стороны, выходящие за черту контура, штрихи делаются все легче и определённее и строго держатся в границах. По этим рисункам можно следить за совершенствованием мускульного аппарата ребёнка. Если притронуться к его руке через некоторый (большею частью очень короткий) промежуток после первых упражнений, мы не почувствуем уже напряжения мускулов. И, наконец, когда из-под руки ребёнка выходит совершенная работа (рисунок с лёгкими, свободными, параллельными штрихами, без единой малейшей чёрточки, выходящей за контур), можно сказать, что мускульный аппарат детской руки, необходимый для письма, дошёл до возможного совершенства, механизм установился и вполне овладел карандашом. По этим рисункам ребёнка мы можем с уверенностью судить о степени его зрелости и умения держать перо в руке.
В дневнике Ирочки я читаю следующее: «5 марта 1917 года. Сегодня просидела 15 минут за штриховкой, работая не отрываясь. Обвела круг (отверстие в рамке) и контуры рамки (квадрат) и заштриховала первое синим карандашом, а рамку красным. Штрихи длиннее, правильнее, гораздо меньше выходят за контур, рука почти совсем мягкая». Дальше: «20 апреля 1917 года. За штриховкой просиживает по получасу и больше. Рука легко и свободно скользит по бумаге, карандаш не ломается, штрихи определённые, часто даже параллельные, совсем не выходят за контур. Не довольствуется одной фигурой, начинает строить комбинации: два пересекающихся круга, два прямоугольника, вписывает иногда в круг какую-нибудь фигуру; делает это ещё неловко и неточно, но я не вмешиваюсь, дожидаясь самостоятельного успеха».
После более или менее продолжительных упражнений в штриховке дети уже не довольствуются изображением одной какой-нибудь геометрической фигуры, а приступают к комбинациям из одной и той же в разных поворотах, из двух или нескольких, составляя часто сложные и изящные орнаменты. Добавлением к этим рисункам служат так же контурные рисунки, изготовленные руководительницами, но о них мы поговорим в главе о рисовании.