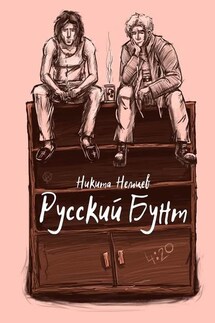Русский бунт - страница 22
После оглушительно пустых десяти секунд, Шелобей длинно посмотрел на меня – и увидел в моих глазах сочувственную пелену.
Лида ушла ещё в самом начале письма.
– Извините, – сказал Шелобей и протиснулся вон, на ходу разрывая письмо в клочья.
Молчание длилось.
Из комнаты с колонками захрипел Том Уэйтс.
Странноликий отделился ото всех и подошёл к плите. Он переставил кастрюльку – показался синий языческий огонёк. Странноликий наклонился и прикурил: в носы ударило табаком.
– Они типа репетировали что-то, да? – спросил он.
Я протолкнулся – («Да, да!») – и стал разыскивать Шелобея (его, разумеется, не было). Я вернулся в коридор и стал искать свои ботинки.
– Если хотите, можете на ночь остаться. Есть спальники.
Я скользнул взглядом вверх и понял: это Эд.
– Да нет, спасибо, – отвечал я. – Мы как-нибудь… Наверное…
– Ну как знаешь. Если что – возвращайтесь. – Он тепло пожал мне руку и покивал.
Выйдя в этот засморканный подъезд, я сразу пошёл на лестничную площадку. Шелобей сидел на ступеньке двумя этажами ниже и бессмысленно смотрел на облупившуюся краску. Я подсел.
– Не надо меня утешать, – сказал он очень спокойно.
– Я не собирался.
Молчание продолжалась. Не то лампочка, не то трубы – что-то ровно и светло гудело: казалось, что мы в китовой пасти.
Ловким движением Шелобей выудил сигарету прямо из кармана (странный навык), она надломилась пополам и бестолково заторчала табаком. Шелобей пустил её между перил. Сигарета упала неслышно.
– Иди назад, а? – сказал он.
– Да мне и тут нравится.
Я посмотрел на Шелобея: волосы у него были засалены, а на виске вздрагивала беспокойная вена. Он был похоронного цвета.
– Нет никакого мира, Елисей, – сказал он, – это всё обман.
– Не такой уж и обман.
Мой голос звучал слишком простецки. Я сам засомневался.
– Вечно так: ищу настоящее, а нахожу проблемы, – сказал Шелобей.
Слова дрожали на его губах, а ступеньки были холодные.
– Слушай, Шелобей, я забыл сказать. Я говорил же с Лидой.
– Ой, можешь хотя бы ты не начинать?
– Погоди. – Шелобей хотел подняться, но я его усадил и с настойчивостью всё держал за плечи. – Послушай, я говорил с Лидой. Она сказала, что с Израилем ни фига не наверняка. У неё ж татуировки, они это не любят. И вообще – если захочешь, ты можешь с ней поехать. Не знаю, почему она сама тебе это не сказала.
Шелобей прижал вдруг ладони к глазам (самой пухлой частью, где кисти начинаются) и расхныкался:
– Господи, какой же я тупой…
Я сильнее сжал ему плечи – потому что ничего умней не мог придумать.
– Хочешь, – сказал я, – хочешь, назад вернёмся? Алкаха осталась ещё.
Он зашмыгал и отёр глаза:
– Ну не, это будет уже совсем тупорыло.
Я согласился. Согласился и достал телефон – посмотреть время.
– До метро ещё минут сорок… – сказал я и задумался. – Слушай. А погнали по трамвайным рельсам гулять? До метро какого-нибудь?
– Ты прикалываешься? – Он убрал ладони: глаза у него были красные, робко улыбающиеся.
– Да нет. Серьёзно.
И совершенно серьёзно мы вышли из подъезда, перебежали Ленинский проспект и путаными дворами добрались до улицы Вавилова: пойдя по рельсам (снег мелко сыпал и даль убегала мглисто), мы заорали Башлачёвского «Ванюшу»:
VII
Рассунув по карманам силлогизмы, антиномии и горстку ностальгии, – я подходил к универу (одного препода навестить). На карнизах улеглись не долетевшие до земли сугробы, бежевые кирпичи от вечера сохмурились, а вверх стремилось шесть, семь, восемь – девять этажей.