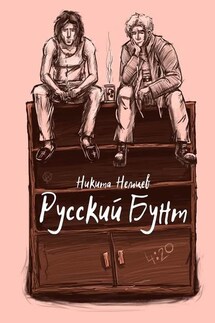Русский бунт - страница 23
У входа – ёжатся, дрожат и фыркают курящие студенты.
Мимо охранника – под турникетом – прямо в холл. Новогодняя ёлка (какая-то зачуханная) уже водворилась, впереди опаздывает неземная девушка с авоськой, полной остроуглых книг… Нет-нет – мне не в этот корпус.
Через обласканный снегом дворик (в котором так приятно тайком покурить) в пятый корпус (который самый убитый) – лестница, отплёвывающаяся штукатурка, трещины, украшенные скобами. «Бога нет», – надпись. «Не курить», – ещё одна. «Верните власть Медведеву!» – это третья. «Великий террорист – рычаг, могущий перевернуть миры» – эта даже с подписью: «Кнут Гамсун».
Седьмой этаж.
Половица скриплет, света нет – иду по темноте. Дверь в коридор, следующий: лампа – люминесцентная – помаргивает. Коридор плетётся вдаль, слева, справа – приоткрытые аудитории: они пусты, глухи и свет там выключен (можно завалиться спать). Я иду, заложив руки за спиной и вслушиваюсь в удары своих каблуков. Лёгкий запах зацветающей воды, одинокие, опустелые пространства – и мысль: «В космосе нет музыки».
Семьсот сорок третья: в неё три двери, но настоящая одна (меня не проведёшь). Аудитория смежная, даже коммунальная (этот корпус – бывшая гостиница). В одной комнате – Стелькин (я, собственно, к нему), в другой – талдычат по-английски, а двери между ними нет. Столы зелёные, гадкие; стулья без спинок и ножек. (Мы с Шелобеем тут как-то пиво пили и «Голову-ластик» вместо пар смотрели.)
Шмыгнув мимо англичан, заглядываю: студенты болтают и залипают в телефоны.
– А Стелькин здесь? – спрашиваю.
– Да, здесь, – отвечает заспанная девица.
Я делаю шаг и оглядываюсь.
– Но его здесь нет.
– Да, нет, – отвечает та же.
Стою. Не знаю.
Студенты за партой болтают:
– …А ответить надо: «Что-то я здесь одноглазых не наблюдаю».
– Ты где этого набрался?
– В школе.
– Чё-то я в неправильной школе, видимо, училась.
– Ты просто училась в школе для аутистов.
Помявшись (сесть ли?) и оглядев студентов, я вспоминаю, что как раз хотел в туалет. На седьмом этаже только женский, а до мужского надо спускаться на шестой… Да всё равно делать нечего.
Ступаю на кафель уборной и слышу – конский храп. Борясь со смутной догадкой, стучу в дверь. Храп даже не думает исчезать. Ещё раз, громче, – стучу. И – для уверенности – прибавляю:
– Аркадий Макарович?
Храп сменили удар, сдавленное «чёрт возьми!» и поспешное:
– Графинин, ты, что ли?
– Я, Аркадий Макарович. Вы там спите?
Он заныл:
– Мой мальчик, я напился в ужасающую срань!..
– Аркадий Макарович, там студенты ждут. Вам надо идти.
– Я не могу, Графинин.
– Почему?
– Какой-то хмырь окаянный стащил мои вещи.
– Вы голый, что ли?
– Ага, блин.
Я осмотрел свои ноги и задумался.
– Что, даже трусов не оставили? – спросил я.
– Трусы трогать не стали, работали профессионалы. – Он вздохнул с присвистом и, кажется, вскарабкался на унитаз.
Я положил пальто на подоконник и принялся расстёгивать ремень – профессору штаны нужней, чем мне.
Под дверцей я передал ему футболку, джинсы и сапоги, а сам запахнулся куртку, похожий на погорелого еврея.
Стелькин, пока одевался, рассказывал из-за двери:
– Да, блин, как всегда. Принёс Единицын коньяк пятилетний – день рождения у него там или ещё какая лабуда. Ну мы распили на кафедре… Графинин! Ну ты и дрищ!.. Да. О чём, бишь, я? А потом с Болванской две бутылки шампанского высадили. Ну, захотелось мне её за грудки пощупать. Вокруг стола бегаем, она ржёт, как свинья резанная. Потом пропёрло меня на блёв: памятуя, что занятия в пятом корпусе, – я героически попёрся сюда. О, мой мальчик! Я наблевал девяносто три бидона, я лишился всех своих внутренностей, я изрыгнул целое мироздание – убрался, и уснул прямо на толчке. По всей видимости, именно тогда какой-то вшивый студиозус, пренебрегая субординацией и банальными правилами этики…