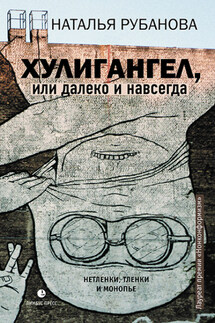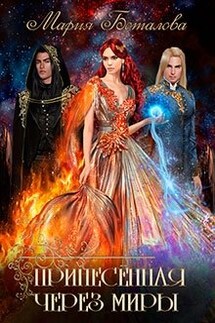Русский диссонанс. От Топорова и Уэльбека до Робины Куртин: беседы и прочтения, эссе, статьи, рецензии, интервью-рокировки, фишки - страница 26
В. Д.: Лет семь назад уже под воздействием детей я окунулась в мир сетей. Конечно, после сопротивления. Но быстро, почти моментально, к изумлению, помню, младшего сынишки… Ого, говорит, я-то думал, ты будешь едва тут передвигаться, а ты… Да, освоилась быстро. Пара факторов сработала. Или чуть больше. Я большой контактёр. Я в этом понимаю. Мне ничего не стоит заинтересоваться практически чужими делами, и всерьез. И я гуманист. Я неравнодушна к роду человеческому с его мозолями, порезами, нездоровьем и небессмертьем. Ну и еще… Я давно подозревала, с юных лет, что стихи следует писать ежедневно. Или по нескольку раз в день. Это преобразует реальность: и твою лично, и мировую. И вот я принялась… Седьмой год пишу в фб практически каждый день по стиху. В год выходит по книжке. По альбому с песнями. Массу уроков извлекла из этого. Чисто профессиональных. Настроила свои собственные внутренние механизмы так, как они никогда прежде не работали. Очень много удивительного пережила. За эти годы. Иллюзорного и чудодейного тоже. Я не допускаю даже мысли о том, что стиху не место в обыденности. Ему там самое место. В общем, в новостной ленте. В повестке дня. К тому же упоминание твоего скромного имени наряду с событиями дня – это правильная технология. Да и люди на концерт приходят, признаюсь. Не жили никогда с растяжками и баннерами по городу, не придется и начинать… за мое время на фб публика моя помолодела изрядно, средний возраст до 50 лет. Было-то иначе, конечно же. Фактор новизны, откровенной свежести: я очень большой этого ценитель. Не реликтовый пусть и вбитый крепко в память припевчик, а свежий стих, равновеликий событию, новостному поводу. Вот так работаю.
Н. Р.:На ваших концертах рождается некое магическое пространство, сотканное из звуков и смыслов, которые с первых же аккордов находят «точки доступа» к душе. Вы чувствуете волшебство отдачи зала, его ауру – и как она меняется от песни к песне?
В. Д.: Да, именно так. Концерт – мое любимое занятие, вот эти полтора-два часа жизни, им почти нет равных. Это сложилось давно. В мои неполные 16 лет я заметила перемену в лицах тех, кто слушает: не обязательно меня. Но вот этот камерный стиль. Вот эти простодушные домашние концерты наши или почти домашние – Бачурина или Бережкова, Луферова или Суханова… Не так и мало имен: тех, кто менял лица слушателей. Это и без имен отцов-основателей – Окуджавы или Матвеевой, Галича, Высоцкого… Лица менялись. Сосредоточенность наступала молитвенная. Компактность, сжатость происходящего была пороховой. Верьте мне, это было необыкновенно, в те годы, 70–80-е! Публика была запрограммирована на звучное эффективное слово, одна редкая рифма – и ты видел экстаз у людей. Так было долго. Камерный стиль – старый колдовской жанр. Но попса поглотила практически все. Доступный стиль оказался сладок и манящ, и публика конца 90-х, вздохнув, двинулась за ним… Последние ТВ-программы по «Культуре» отгремели давно. Залы закрылись для таких, как я. Прощай, так сказать, Политехнический, где двадцать лет проходили концерты. Само собой, давно попрощались с Театром Эстрады, где предыдущие пятнадцать лет собирали залы. Малюсенькие залы остались: 50–100 человек. Очень дорожу и этим. О больших залах не вспоминаю. Мои дети уже и не помнят меня на сцене. Но это не страшно. Есть секреты. Есть заготовки. Небольшой домашний голос. Неплохая гитара. Маленькие умения. Ну и стихи… Они могут за себя постоять.