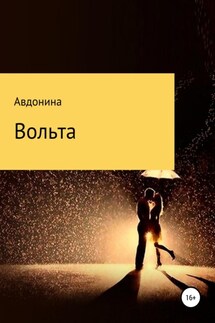Русский мир. Часть 1 - страница 18
По мере проникновения образования в крестьянскую среду сказок начинают стесняться. Корреспондент Этнографического бюро князя В. Н. Тенишева сообщал из Владимирской губернии: «Взрослые сказок не любят и говорят, что это одно баловство. Считается, что дети зря обувь носят, если в школе задают на дом учить сказки. Сами дети сказки любят…»>26 С одной стороны, понять крестьянина можно – сказки детям и дома расскажут, в школу он ходит за наукой. С другой стороны, очевидно, что перед городским человеком, задающим вопросы о крестьянской жизни, надо выглядеть прилично, Владимирская губерния в самом центре страны, не какое-нибудь захолустье. В этом большая проблема всех такого рода опросов – правду ли говорят или покрасоваться хотят, мол, мы тоже знаем, что сказки – это для детей, самим взрослым людям в любви к ним признаваться неловко.
В дворянской среде все эти процессы были еще более масштабными. В XIX в. разрыв между народной крестьянской и дворянской культурой все возрастал. С распространением печатной художественной литературы, иностранных языков и книг в России дворянство и вообще образованная часть населения практически полностью отошла от фольклора. Если в допетровскую эпоху даже цари развлекались, слушая вечерами сказочников, то к началу XIX в. не самый «знатный» дворянин, в плане происхождения и крови, А. С. Пушкин пишет о «недостатках проклятого своего воспитания», которое было лишено сказок.
И в этот момент сказка в очередной раз демонстрирует свою «живучесть». Во-первых, ее начинают записывать и издавать в виде лубочных изданий для народа, отдельных книг, целых научных собраний. Из бесконечно подвижной и изменчивой формы сказка превращается в более статичную. Теперь ее не только рассказывают, но и читают.
Во-вторых, сказочные сюжеты проникают и в художественную литературу. Самые знаменитые – сказки А. С. Пушкина. Использовав традиционные народные темы и персонажей, Пушкин придал им блестящую поэтическую форму, показав пример гениального сочетания народного творчества и «высокой» литературы. Пушкин гордился своими сказками. На рукописи «Сказки о рыбаке и рыбке», которую он подарил В. И. Далю (тот свои сказки публиковал под псевдонимом Казак Луганский), поэт написал: «Твоя от твоих! Сказочнику казаку Луганскому – сказочник Александр Пушкин». Интересно, что сказки Пушкина пользовались успехом и в крестьянской среде. Данные Этнографического бюро свидетельствуют об этом. «Сказки Пушкина знают даже безграмотные старухи», – писал корреспондент бюро из Ярославской губернии. А вот сказки Л. Н. Толстого, написанные специально для народа, успеха не имели. Многие крестьяне запрещали детям читать такие сказки: «К чему пригодны такие книжки? В них только и говорится, что про чертей» >27.
В. А. Жуковский, П. П. Ершов, В. И. Даль, М. Ю. Лермонтов, даже императрица Екатерина II и многие другие писали сказки. Таким образом, сказка адаптировалась к новым условиям, круг ее читателей расширялся, разнообразился. Она по-прежнему соответствовала вкусам русского человека, вне зависимости от его положения и состояния.
Некоторых такого рода приземленный и простой вкус огорчал и как-то обижал. Писатель А. Е. Измайлов в своем романе «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания», вышедшем в самом начале XIX в., писал: «Прочти деревенскому дворянину, который не выезжал из села своего и провождал в нем все время с одними псарями и девками, прочти ему Хераскова “Россияду”, он многого не поймет в ней, но сражения богатырей ему понравятся, и, может быть, нелепая сказка одержит в его уме преимущество над бессмертною поэмою»