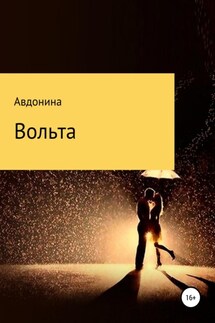Русский мир. Часть 1 - страница 19
Сказка продолжала существовать и в традиционной устной форме. Даже в дворянской среде увлечение ей продолжалось. С. Т. Аксаков с большой любовью вспоминал о ключнице Пелагее, которая ввела его в мир сказок. В автобиографической повести «Детские годы Багрова-внука» он описывает свое знакомство с Пелагей и ее сказками: «По совету тетушки, для нашего усыпления позвали один раз ключницу Палагею, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать. Пришла Палагея, не молодая, но еще белая, румяная и дородная женщина, помолилась Богу, подошла к ручке, вздохнула несколько раз, по своей привычке всякий раз приговаривая: “Господи помилуй нас, грешных”, села у печки, подгорюнилась одною рукой и начала говорить, немного нараспев: “В некиим царстве, в некиим государстве…”»>29 Аксаков вспоминает, что сказки захватили его целиком и полностью, из-за них он был готов забыть обо всем до такой степени, что его заботливая мать даже на какое-то время запретила их ему рассказывать. Уже взрослым он вспомнил Пелагею с ее сказками и записал чудесную сказку «Аленький цветочек».
А как прекрасно описывает И. А. Гончаров значение сказок в жизни его героя дворянина Ильи Обломова, их роль в воспитании и формировании его доброй, романтичной, жалостливой и такой боязливой натуры. Особенно привлекательна для него тема чудес, когда можно так прекрасно жить, ничего не делая. К этому стремится его детская душа, об этом мечтает он и став взрослым. Сказка становится частью реальности, той мечтой, к которой стремится душа ребенка и взрослого. Сказки занимают важное место в жизни других обитателей Обломовки, старых и малых.
В неуютной петербургской квартирке Обломова единственное, что хорошо делается, так это спится. И он видит сон про свое чудесное детство:
«…он в бесконечный зимний вечер робко жмется к няне, а она нашептывает ему о какой-то неведомой стороне, где нет ни ночей, ни холода, где все совершаются чудеса, где текут реки меду и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-деньской только и знают, что гуляют все добрые молодцы, такие, как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Там есть и добрая волшебница, являющаяся у нас иногда в виде щуки, которая изберет себе какого-нибудь любимца, тихого, безобидного – другими словами, какого-нибудь лентяя, которого все обижают, – да и осыпает его ни с того ни с сего разным добром, а он знай кушает себе да наряжается в готовое платье, а потом женится на какой-нибудь неслыханной красавице, Милитрисе Кирбитьевне.
Ребенок, навострив уши и глаза, страстно впивался в рассказ…
Нянька или предание так искусно избегали в рассказе всего, что существует на самом деле, что воображение и ум, проникшись вымыслом, оставались уже у него в рабстве до старости… Взрослый Илья Ильич хотя после и узнает, что нет медовых и молочных рек, нет добрых волшебниц, хотя и шутит он с улыбкой над сказаниями няни, но улыбка эта не искренняя, она сопровождается тайным вздохом: сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит подчас, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка…
И старик Обломов и дед выслушивали в детстве те же сказки, прошедшие в стереотипном издании старины, в устах нянек и дядек, сквозь века и поколения…