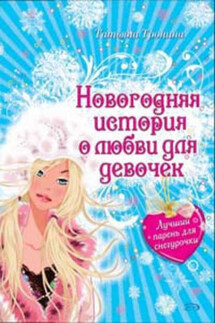Русское молчание: изба и камень - страница 31
Но, согласно Шестову, это право на обладание истиной является совершенно мнимым, и борьбе со всеми, «обладающими истиной», он, собственно, и посвятил все свое творчество. Он убежден, что только опыт переживания смерти или какой-либо аналогичный опыт трагического переживания «открывает человеку глаза на суетность всяких земных привилегий, не исключая и моральных. Тебе это кажется “тьмой”, но мне кажется наоборот ужасом та “правота”, которой люди поклоняются, как поклонялись идолам. Ведь идола можно сделать не только из дерева, но и из идеи. “Единство” истины – один из таких идолов».[87]Именно в личной переписке противоположность позиций друзей-оппонентов проявляется в полной мере. Если Бердяев абсолютный персоналист, близкий к религиозному экзистенциализму, его философия предельно антропоцентрична, то поздний Шестов все более и более теоцентричен (впервые это подметил известный историк русской философии отец В. Зеньковский). Бердяев стремится сблизить Бога и человека, тогда как для Шестова в духе ветхозаветных пророков между человеком и Богом все больше и больше разверзается бездна.
Таким образом, говорить о принадлежности Бердяева и Шестова к экзистенциальной философии невозможно. К концу жизни их мировоззрения все больше расходятся, хотя при этом они сохраняют теплые личные отношения. Различной оказывается и судьба их наследия во Франции, ставшей для обоих второй родиной, как, впрочем, и на Западе в целом.[88] При жизни Бердяев имел значительно большую известность в мире, чем Шестов, и после Второй мировой войны был даже номинирован на Нобелевскую премию. Однако это была известность, скорее, не столько философа, метафизика, сколько специалиста и исследователя «русской души», «русского коммунизма», православия и марксизма. Как свободный христианский мыслитель он плохо воспринимался и постепенно на Западе оказался практически забыт. Тогда как известность Шестова именно благодаря его «беспочвенности», его критике рационализма, непринадлежности ни к одной из конфессий постепенно росла и достигла своего пика в 1966 году в столетие со дня его рождения, когда многие его работы были переизданы и переведены на европейские языки.
Русский Феникс, или что такое философия в России
Странным образом, все кафедры в наших университетах – мертвы.
В. Розанов. 1916 г.
В свое время Лев Карсавин, с его склонностью к парадоксам, в одном из своих текстов («Философия и ВКП(б)») утверждал, что высылка философов из России и полное удушение свободы мысли, безусловно, вещь ужасная, но в далеком будущем может привести и к положительным результатам. Любая традиция амбивалентна: давая ориентацию стимулировать творчество, она, одновременно, сковывает его, лишает внутренней свободы и заставляет двигаться в заданном направлении, повторять ошибки и заблуждения предшествующих эпох. Уничтожение всех интеллектуальных традиций в советской России можно рассматривать как очищение метафизического тела нации, которое после падения большевизма может привести не только к возрождению мысли, но и к подлинному расцвету оригинального философского творчества…




![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)