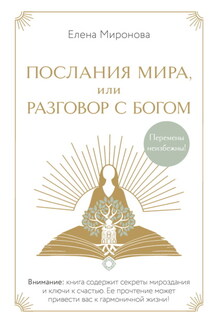Russология. Путь в сумасшествие - страница 32
– Пап, а мне бы бронтозавра на моторе. В „Детском мире“ продаётся. Он до пояса мне. Включишь – ходит и рычит и раскрывает пасть… Клюёт!!
Наш поплавок исчез в воде; я потянул его вверх, крýгом, вбок и книзу, резко дёрнул… Вздыбилась ветка, капая влагой, – и леска лопнула. Сын плакал. Апокáлипсисом стал топляк, пожравший наш крючок… От Лохны шли в расстройстве; я давил сугробы, так топча путь, кой, провидел, пригодится… Наст истёк в сухие травы крутояра, выжженного стылым солнцем. Я полез в карман за спичками.
– Мне дай, пап! Дай их!!
Он чиркнул спичкой. Высушен югом, яр вспыхнул с треском; флора чернела. Сын с визгом бегал, всё комментировал, вертел свой белозубый лик… Мне люб вид трав в огне с тех пор, как на Востоке видел я пожарища, что меркли подле вод. Я, всматриваясь в гладь со скачущим в ней пламенем, гадал: чтó стал огонь? зачем смирился подле влаги? Видел же я там – себя. Я понял: отражение даёт возможность выделить себя из мира, обособиться. Я понял: если пал хирел у вод – то, значит, отражаться, рефлексировать опасно, даже, может быть, весьма. Отсюда мой вопрос: субъект-объектности быть не должно? Познание как отсвет бытия в рефлексии есть смерть? Незнание, выходит, живоносно?.. Здесь ежегодно пал мчал поймой, жар несло к разлогам, в пустоши, к домам. Раз вспыхнул мой старинный сад; стволы преклонных лет и то ожгло, а дом чуть не сгорел. Сейчас я сберегал дом, делая пожог.
Яр потухал дымя. Мы с сыном двинулись с «Планеты Палов» в март Земли; наш каждый шаг взрывался пеплом до границ снегов.
Юнцы, что встретились перед рыбалкой (кто ещё?), украли наш рюкзак с продуктами и, из цветмета, примус с чайником… Есть надо? Надо. Снова пустившись к нижней дороге, я на ней свернул налево, прошагал полсотни метров. Там была изба другая – в два окна, без цоколя, с прогнившей крышей, без веранды, но, при этом, с белым, каменным, отполированным крыльцом. Навстречу, двери настежь, выбрел дед, квадратный и в папахе пирожком; в стык брови; мрачен, насуплен; плюс в безрукавке типа фуфайки, в фетровых бурках, что ниже брючин серого цвета.
– Прибыл, Рогожский?.. Иль Рожанский, точно не помню? – начал он громко, даже чрезмерно, словно бы ждал меня.
Отец, наведавшись сюда, когда я приобрёл избу, и вспомнив в этом ближнем к нам соседе бухгалтера старинных дней, с тех пор здесь избегал быть, в «капище предков и их лемуров» (то есть злых духов).
– Стук… Хозяйка, видимо? – спросил я о шумах за дверью.
– Ишь, хозяйка… Где хозяйка? Кто хозяйка? Нет хозяйки и не будет. Дура в Туле, в онкологии, – бурчал он, став в проёме, супясь. Он ни разу не впускал меня к себе. – За грех лежит… Иль сдохла?.. Пусть бы сдохла! Продала дом, – я страдал тогда на зоне, – и втолкалась, блядь, сюда, в херовый этот дом, где мучусь.
– Списывались, помню, ― возражал я.
– Хрен вам с мёдом в селезёнку! Пишет вот кто! – тряс он бланком. – Мне! Закваскину!! Проникся? Николаю персонально Фёдорычу! Бланком! С министерства! „Буду сын“…! – Он кашлянул. – Есть дочь в Орле. Дочь что? Дочь баба; где-то, тварь, блядует, проститутка-шалашовка… Сын есть сын: он мал был, сын, я сел за правду… Жить мешали, коммуньё… Я знал: их скинут, всех идейных! Знал я это с Маленкова, начал бизнес с ГээСэМ. Фартило, наварил я… Слили, падлы, сел… Вот суки! Жизнь сломали!.. Дом я прóдал из-за дуры. Ныла-выла: сыну деньги, дочке деньги, я больная, ты на зоне; он, талдычит, тот Рожанский, он даст тысяч, купит дом наш; деньги будут – мы найдём, где жить, как выйдешь; пол-села, мол, изб пустых, в любой селись, хоть в той, хоть в этой; а москвич, мол, хочет в Квасовке и в этом самом доме; он серьёзный. Мол, Рогожский Пал Михалыч даст нам деньги, тыщи три даст. Вот же сука!.. Ты разумный, – он скривился. – Три дал… Знал, Горбач угнёт рубль, так ведь?.. Глянь, Рожанский! – Он представил фото: брови в стык, белёсы; взор нетрезвый; гимнастёрка при погонах с лычкой младшего сержанта; челюсть как у архантропа. – Глянь! Орёл!!