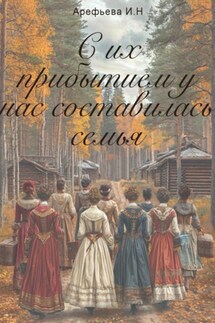С их прибытием у нас составилась семья - страница 6
Мария Николаевна навсегда запомнила маленькие покосившиеся хибарки, и «страшную бедность» местного населения.
Деньги, взятые с собой в дорогу, отчасти были сданы коменданту, отчасти розданы особо нуждающимся. Декабрист А.Е. Розен в «Воспоминаниях» обратил внимание на то, что Волконская и Трубецкая зимой 1826–27 годов «терпели от холода и голода, что они сами стирали белье, мыли полы, питались хлебом и квасом.» Об этом периоде написала в «Записках…» и М. Н. Волконская: «Мы ограничили свою пищу: суп и каша – вот наш обыденный стол; ужин отменили. Каташа, привыкшая к изысканной кухне отца, ела кусок черного хлеба и запивала его квасом».>17 Вероятно, отправляясь в Сибирь, такую жизнь ни одна, ни другая даже представить себе не могли.
Путь на каторгу Сергея Григорьевича был не менее трудным, чем у Марии Николаевны, но он был готов к нему, понимал, что ожидает его впереди. Отправлен в Сибирь он был 23 июля 1826 года, из Иркутска его переправили на винокуренный завод, а затем с октября 1826 года он выполнял работу на Благодатском руднике. Рядом с ним трудились С. П. Трубецкой, Е. П. Оболенский, А. З. Муравьев, В. Л. Давыдов, А. И. Якубович, братья А. И. и П. И. Борисовы – осужденные по I разряду. То есть те, кого суд посчитал руководителями, организаторами восстания и активными членами тайных организаций.
Заключенные работали в шахте, вырубали руду под землей. Рабочий день длился с 5 часов утра и до 11 часов, затем с 15 до 17 часов. Через некоторое время их перевели на поверхность разбирать, сортировать и складывать куски руды. Работа была физически тяжелой для заключенных, несмотря на то, что многие были из офицерской среды, т. е. людьми, привыкшими к кочевой и военной жизни. Однако каторжная работа была однообразной, беспросветной – все работающие находились под усиленным надзором охраны.
Там, на руднике, Мария Николаевна получила свидание с мужем, увидела, в каких условиях пребывали заключенные. Помещения, в которых они находились, были тесные, дышать в этих «палатах» было нечем.
Поделиться своим отчаянием бедной женщине было не с кем, муж Екатерины Ивановны Трубецкой находился в таких же условиях. И Мария Волконская начинает писать письма, десятки, сотни писем из Сибири родным и близким людям. К счастью, некоторые из них сохранились. Письма – это и крик души, и попытка разобраться в своих чувствах, и надежда хоть кем-то быть услышанной. Ответные послания шли не менее трех месяцев, поэтому если с очередной почтой письма не приходили, она не знала, что и думать: здоров ли ее маленький сын; как чувствует себя болевшая Софья, сестра ее мужа; вспоминают ли они их, живущих в засыпанной снегом Сибири? В каждом письме Марии Николаевны тревога за мужа и никаких жалоб на трудности своей жизни. От письма к письму раскрывается характер этой удивительной женщины, способной перенести иногда непереносимые трудности.
Это письмо было написано 12 февраля 1827 года:
«Милая и добрая матушка. Я наконец водворена в той самой деревне, где мой обожаемый Сергей; это важно, и тем не менее мое сердце не удовлетворено. Прежде всего, не могу не передать вам, как худо и как болезненно выглядит мой бедный муж. Его здоровье меня беспокоит, ему нужны все мои заботы, а я не могу отдать их ему. Нет, я не оставлю его, пока его участь не будет значительно облегчена. (…) Как ни тяжелы для моего сердца условия, которыми обставили мое пребывание здесь, – я подчиняюсь им с щепетильной аккуратностью».