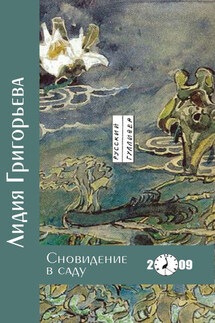Сады земные и небесные - страница 11
Это были подписи друзей, сокурсников и даже двух-трех (пусть им икнется) отвергнутых поклонников. Их-то хоть понять было можно.
То, что меня после университета никуда не брали на работу, то, что мне пришлось уехать в Москву и там тоже многие годы работать «за штатом», на вольных хлебах, которые никогда не были и не будут обильными. То, что долго не выходили мои книги, не выпускали за границу (даже в Болгарию, которая считалась едва ли не шестнадцатой республикой!), все это следствие необъяснимого единодушия малознакомых друг с другом людей, порой питавшихся – с моей легкой руки – не только студенческими бутербродами с колбасой, но и запрещенными текстами воспоминаний Надежды Мандельштам, к примеру. То есть пищей, как ни судите, духовной.
И что же было дальше? А дальше было то, что главная доносительница, лучшая подруга, просто-таки писавшая регулярные отчеты о наших поэтических посиделках, во главе которых я (по мнению оперативников) и пребывала (как главный злодей и организатор, а это уже и «статья» покруче), она – покаялась… Объяснила, что ее склонили к сотрудничеству, что угрожали исключением из университета, а она первая в их рабочей семье получает высшее образование. К тому же, у нее старые и больные родители, надышавшиеся за свою жизнь свинцом в типографском полуподвале. Что ей кормить их будет нужно на старости лет, а без диплома – никуда. Что она больше не будет…
Говорю обо всем этом только потому, что я ее простила – еще в те времена, а не сейчас, в безопасном и дальнем благодушии.
Видимо, во мне тогда проснулся дедушка с материнской стороны (как у Короля в «Обыкновенном чуде»). А вот если бы проснулась бабушка с отцовской стороны, то им всем, может быть, и не поздоровилось бы.
То есть пришлось бы мне (под влиянием уже дурной наследственности) написать доносы на самих доносителей! Чего, собственно, следствие и добивалось. Ибо им нужно было сколотить группу идеологических злоумышленников. А без такой группы дело «О салоне Лидии Григорьевой» распадалось и его пришлось закрыть за неимением веских и нелживых доказательств. Или просто новое поколение сотрудников КГБ, с высшим гуманитарным образованием, пыталось соблюдать видимость законности и презумпции невиновности.
Еще меня тогда, как я догадываюсь, спасла явная и, главное, бессмысленная ложь сочинителей доносов. В первый же день следователь, прямо как в кино, предложил мне закурить. Оказалось, что я не только не курю, но и страдаю от пассивного курения. Он был явно удивлен и для верности заглянул в бумаги.
Потом открылся еще один явный обман, потом откровенный оговор с моим невинным алиби в виде отсутствия в городе в момент якобы злостной, публичной антисоветской агитации.
После многих дней «доверительных разговоров» (кричал на меня и топал от злости ногами только полковник Морозов, которого, говорят, боялись и сами сотрудники) следователя все же осенило, что меня по-настоящему в этой, случайно выпавшей мне исторической эпохе, интересует не общественное устройство (царизм, коммунизм, брежневизм), а такая неопасная пустяковина, как изящная словесность в ее чистом виде. Хотя и за нее в древнем мире и языки вырывали, и глаза выкалывали, и на кол сажали. А уж в тридцатые годы двадцатого века…