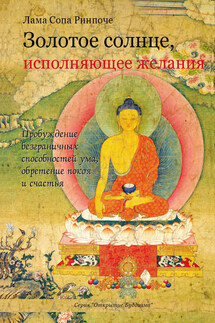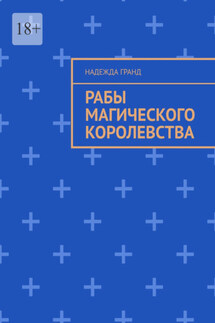Саквояж и всё-всё-всё. Всё, что было в саквояже - страница 31
Даша взяла фотографию дрожащими пальцами. Вздрогнула, прикусила губу.
– Это дедушка Валя? – Она недоверчиво всматривалась в знакомые черты. – Но… почему он в форме? Ведь мне всегда говорили, что он работал в какой-то конторе, был инженером. Бабушка всегда говорила…
Я молча выложил следующий снимок. Кротов стоит среди сослуживцев. Наганы в кобурах, фуражки лихо заломлены назад, уверенные позы людей, облечённых властью. За их спинами – железные ворота внутренней тюрьмы.
Далее. В рабочем кабинете – массивный дубовый стол, за которым сидит Кротов, завален папками следственных дел, малахитовый чернильный прибор, настольная лампа. На стене – карта области, выше – портрет Дзержинского. В углу – несгораемый шкаф с особо важными документами.
Дарья смотрела, не двигаясь. Только пальцы слегка подрагивали, держа снимки. Я начал читать документы. Протоколы допросов. Личные резолюции. Приговоры.
– Вот, например. «По делу гражданина Мясина-Колбасина Антона Георгиевича. Обвиняется в шпионаже в пользу иностранных разведок. В ходе допроса с применением специальных мер воздействия признал свою вину. Приговорён к высшей мере наказания. Приговор приведён в исполнение. Подпись – Кротов».
– Специальные меры воздействия? – Дарья посмотрела на меня. – Что это?
– Пытки, – ответил я. – Избиения, лишение сна, холодный карцер, «выстойка». Всё это подробно описано в служебных записках.
Её мир не рушился с грохотом. Он осыпался тихо, как старая штукатурка, обнажая страшную кирпичную кладку под собой. «Применены меры физического воздействия». «Признал свою вину». «Высшая мера социальной защиты». И это её прадед, которого она знала только по семейным фотографиям, где он улыбался, держа на руках её маленькую бабушку…
Она встала. Подошла к окну. За стеклом по-прежнему шёл дождь.
– Таких дел десятки. Может, сотни, – я перелистывал страницы. – Учителя, инженеры, врачи, рабочие, крестьяне, учёные. Бухгалтер Райпотребсоюза. Священник. Агроном. Все – враги народа.
– Не может быть, – прошептала Дарья. – Это ошибка. Должна быть ошибка. – Она качнулась и вцепилась в подоконник так, словно только он один удерживал её в этой комнате, на стенах которой проступила карта чужой, невыносимой боли.
– Рапорты о расстрелах. Он всё делал сам. Собственноручно. В подвале управления. Его подпись внизу каждой страницы. Почерк твёрдый, уверенный. Как у человека, который никогда не сомневается.
Она смотрела на ровные строчки казённых букв, но лицо её было таким, будто она видела не их, а живых людей, идущих по бесконечному коридору.
– Сорок шесть человек за один день? – спросила она шёпотом. – Как это возможно?
Часы пробили семь.
– Как мне теперь с этим жить? Как…
Она не договорила. Мы оба знали – ответов нет.
– Но самое странное случилось позже, Дарья. Что-то произошло. Что-то, что изменило твоего прадеда.
Дарья подняла глаза:
– Что вы имеете в виду?
Я достал из файла ещё несколько документов.
– Что это?
– Это самое интересное. Я закурю? У окошка?
Дарья кивнула.
– Здесь документы за тридцать восьмой год, вторая половина. Когда твой прадед вдруг… перестал быть собой.
– В каком смысле?
– В прямом. Представьте: человек годами честно служит системе. Пытает, расстреливает, подписывает приговоры. Имеет благодарности и награды от начальства. И вдруг – как подменили.
Я протянул ей первый документ:
– Вот, смотрите. Дело врача Лебедевского. Стандартное обвинение – вредительство. До этого такие дела твой прадед фабриковал и заканчивал за две недели. А тут – полгода волокиты.