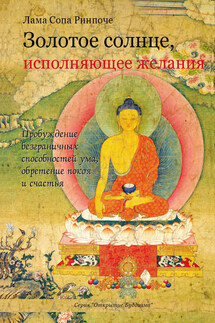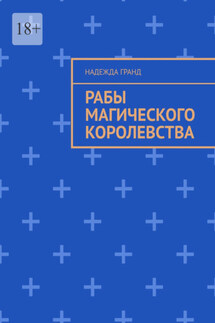Саквояж и всё-всё-всё. Всё, что было в саквояже - страница 29
Я представил: голод, холод, темнота. И из патефона – про океан. Про любовь.
– Спекулянт был в косоворотке и золотом пенсне. Повертел запонки, поцокал языком. Спросил: «Откуда?» Прабабушка соврала – мол, от дядьки достались. Он хмыкнул: «Знаем мы ваших дядек…»
Дарья замолчала. Где-то вдалеке завыла сирена скорой.
– В сорок третьем, в феврале, прабабушка умерла, от голода, а бабушку эвакуировали с детским домом через Ладогу. Она рассказывала, что лёд трещал под полуторкой, а она думала только об одном: как там мама? Она так и осталась лежать в их комнате, накрытая старым одеялом?
Я смотрел на запонки. Они поблёскивали тускло, как звёзды сквозь туман. Полбуханки хлеба. Консервы. Патефон с Вертинским. Жизнь человеческая.
Передо мной – девушка и её воспоминания о сирени. В моём кармане – протокол расстрела. Два мира за одним столом. Если я сейчас открою рот, один из этих миров рухнет. А если промолчу?
Официантка прошла мимо. Я машинально отметил: губная помада у неё того же оттенка, что и пятна крови. Господи, куда меня несёт.
Эта мысль почему-то напомнила мне Аркадия Вениаминовича. Как он, протирая очки платком, сказал: «Знаете, Виктор, правда – она как водка. Горькая, противная, но иногда лучше любого лекарства. Главное – дозу соблюсти».
А ещё я вспомнил фотографию. Не ту, парадную, из семейного альбома, которую видела Дарья, – другую. Из архива. Там он стоял, подбоченившись, у стенки, с револьвером в руке. И улыбался. Как будто на курорте снимался, а не…
– К чёрту, – решил я. – Она имеет право знать. Хотя бы потому, что те, кто приговорён, расстрелян, растоптан им, тоже чьи-то прадеды. И у них тоже есть внуки и правнуки. Потому что молчание – тоже форма лжи.
– Дарья, – начал я, – есть кое-что, что вам нужно знать о вашем прадеде…
Она подняла руку, останавливая меня:
– Не здесь.
Я огляделся. Пожилая дама за соседним столиком, под который закатилась моя пуговица, уже навострила уши, как старая легавая, и не сводила с нас глаз. Официантка демонстративно протирала стол рядом, хотя он был чист. А в углу шумная компания студентов громко обсуждала новую кофейню на Рубинштейна, где бариста делает какие-то немыслимые узоры на пенке.
– У меня квартира тут недалеко, – сказала Дарья, аккуратно закрывая коробочку. – Там есть кое-что ещё. Фотографии, письма… Бабушкин архив. Она всё хранит. Говорила, память – как нитка: потянешь за один конец, размотается весь клубок. Может быть, вам будет интересно.
Я кивнул. «Интересно» – не то слово. Я столько времени копался в протоколах, отчётах, служебных записках. А тут – домашний архив. Личные вещи. Казённые бумаги против семейных писем.
– И ещё, – добавила она тише, – у меня есть коньяк. Армянский. Кажется, такие разговоры без коньяка не ведутся.
Я усмехнулся. Дарья была права. Чертовски права. Такие разговоры действительно требуют коньяка. И тишины. И возможности помолчать, когда закончатся слова.
– Пешком? – спросил я.
– Тут близко. Петроградская сторона, Большая Пушкарская. Дом довоенный, – она улыбнулась краешком губ. – Знаете, такой, в котором в парадной пахнет сыростью, кошками и корицей. Соседка печёт пироги каждую субботу, говорит, пока печёт – жива.
– Всё как у меня, – улыбнулся я в ответ. – Только у меня пахнет кошками и жареной картошкой.
Я расплатился.
– Подождите минутку, – Дарья скрылась в дамской комнате.
Я смотрел в окно. Накрапывал дождь. Капли стекали по стеклу, оставляя кривые дорожки. Как слёзы по щекам. Как жизнь – то плавно, то рывками, то вбок.