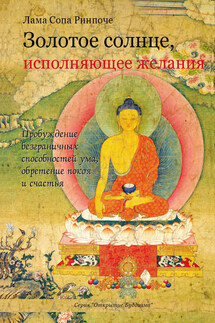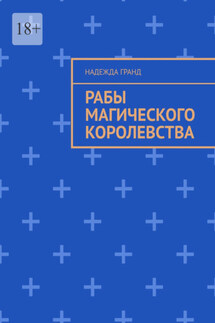Саквояж и всё-всё-всё. Всё, что было в саквояже - страница 28
Без пяти четыре дверь звякнула снова.
Вошла девушка. Светлое платье в мелкий цветочек, волосы цвета осеннего мёда собраны в небрежный пучок, из которого выбивались непослушные пряди. Тонкие пальцы сжимают ремешок сумки – костяшки побелели от напряжения. В глазах – серых, как петербургское небо, – тревога и ожидание.
Она медленно обвела взглядом зал. Я встал, неловко задев чашку. Кофейная ложечка звякнула как колокол.
Наши глаза встретились. Она чуть заметно кивнула, улыбнулась уголками губ и направилась к моему столику. Походка лёгкая, но какая-то осторожная – так ступают по рассохшимся половицам в старом доме, боясь потревожить тишину.
– Виктор? – спросила неуверенно.
– Да, – ответил я. – Присаживайтесь, Дарья.
Официантка уже спешила к нашему столику с блокнотом наперевес, я отрицательно покачал головой: «Не надо».
Полез в карман пиджака. Коробочка с запонками застряла – чёрт бы побрал эти узкие карманы. Дёрнул чуть сильнее, и пуговица с треском отлетела, запрыгала по полу, закатилась под соседний столик. Пожилая дама, сидевшая там, поджала губы и посмотрела на меня с такой вселенской скорбью, будто я не просто пуговицу уронил, а публично усомнился в гении Чайковского.
– Простите, – пробормотал я, поднимая оторвавшуюся пуговицу. Положил наконец коробочку на стол.
Старый бархат потёрся на углах и поблёскивал, как лысина Джузеппе «Сизый нос». Петли коробочки держались на честном слове. В девяностые такие коробочки выбрасывали пачками – доставали из сервантов, вытряхивали содержимое и отправляли в мусор. Теперь их продают в антикварных.
Дарья смотрела на коробочку. Её пальцы, тонкие и бледные, как у пианистки, замерли над крышкой.
– Можно? – спросила она шёпотом.
Я кивнул.
– Конечно, можно. Теперь они ваши.
Крышка открылась с тихим вздохом – так вздыхают старики, поднимаясь по лестнице. Запонки лежали на выцветшем шёлке, как два серебряных глаза. Смотрели. Ждали.
– Боже мой, – выдохнула Дарья. – Они… они настоящие.
Она молчала, только ресницы вдруг стали темнее, слиплись. А потом я увидел, как на скатерти появилось тёмное, быстро расплывающееся пятнышко. И ещё одно.
– В детстве, – заговорила Дарья, промокнув глаза салфеткой, – бабушка часто доставала альбом. Большой такой, в коричневой коже. На фотографиях прадед всегда был в белой рубашке. И эти запонки… они блестели даже на чёрно-белых снимках.
Я молчал.
– Он работал в какой-то конторе, – продолжала она. – Обычный служащий. Каждое утро уходил с портфелем, каждый вечер возвращался. По воскресеньям водил бабушку в Таврический сад кормить уток. Она помнит, как он подсаживал её на плечи, чтобы она могла дотянуться до веток сирени.
«Обычный служащий». Я чуть не поперхнулся кофе. Если бы она знала… Но как рассказать? Как объяснить, кем действительно был человек, который подсаживал маленькую девочку к сирени и кормил уток в Таврическом…
– А потом его забрали, – голос Дарьи дрогнул. – В тридцать девятом. Ночью. Кто-то написал донос. Бабушка помнит, как её мама плакала. Как соседи отворачивались во дворе. Как исчезли все знакомые – будто их стёрли ластиком с картинки нашего двора.
– А запонки? – спросил я, разглядывая узор на скатерти.
– Это уже в блокаду, – Дарья погладила бархатную коробочку. – Зима сорок второго. Прабабушка договорилась со спекулянтом. Он давал хлеб и ещё какие-то продукты. За запонки… – она замолчала. – Они с бабушкой пошли к нему домой. Пятый этаж, окна затемнены. В комнате – буфет красного дерева. На буфете – патефон. А в патефоне – Вертинский. «В синем и далёком океане…»