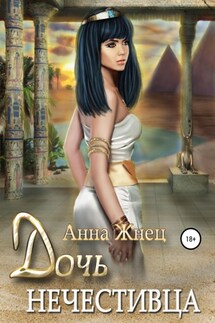Саломея - страница 11
Покровитель, но такой, у которого можно одолжить рубашку и парик перед важным приёмом, если ваши сани по дороге в Петербург провалились под лёд и все наряды пропали. Покровитель, в минуту чернейшей хандры присылавший записку со стихами, писанными нелепым слободским письмом – русские слова латиницей – и в стихах этих просьба к Артемию не умирать, хотя бы до вечера, до следующей их встречи.
Великолепный патрон, друг и брат, ослепительный романтик с головой в облаках.
При дворе де Монэ имел свою бледную тень, копию, так и не дотянувшую до оригинала. Её величество искренне забавлялась, наблюдая этих двоих в одной зале – синеглазого бледного камергера де Монэ и камер-лакея Лёвольда с его оленьим бархатистым взором и тонкими усишками. Их черты были схожи – высокие трагические брови, чётко очерченная линия подбородка и капризный насмешливый рот. Один предпочитал лазоревое, другой – золотое. Как близнецы Schneeweißchen und Rosenrot из старой немецкой сказки…
У Лёвенвольда сходства с де Монэ было даже больше, чем с собственным его братом Карлом Густавом. Государыня веселилась, двор смотрел на них двоих – столь разных и столь похожих, а двое – смотрели друг на друга.
И пробил час явиться на сцену – пупхенам. В тот день Волынский приехал к другу с подарком. Гость прошёл в комнаты, убранные с версальским шиком, и слуга, шагавший за ним, нёс, кряхтя, двух объёмистых золотых пупхенов, сиречь амуров – символы нежной взаимной привязанности.
В роскошной гостиной де Монэ, в его любимом разлапистом кресле, под меховым пушистым пледом, сидел противный камер-лакей Лёвольд и болтал ногой. Туфли с золотыми пряжками валялись под креслом, мерзавец устроился, подобрав под себя одну ногу, другая изящная ножка в мерцающем шёлковом чулке томно покачивалась. Лёвольд зевнул, прикрывая розовый рот, – сверкнули перстни, качнулись серьги – и лениво мяукнул:
– Тёма, здравствуй, – и, слуге, – что ты замер, человек, ставь болванов на стол.
И эти его тараканьи усы! Первым порывом у Волынского было – схватить ничтожество за шкирку и вышвырнуть вон, и он шагнул было. Но тут явился хозяин дома, в домашнем шлафроке с китайскими синими птицами, обнял Артемия и увёл прочь. А трусоватый соперник, вошь платяная, наверное, сбежал – когда они вернулись в гостиную, в разлапистом кресле никого уж не было, лишь валялся пушистый плед.
Вот этих-то пупхенов и припомнил ни с того ни с сего проклятый Лёвенвольд. Глупая, конечно, история, и для всех троих довольно постыдная.
Хотя де Монэ уже не доведётся устыдиться – через месяц после пупхенов он был арестован, а вскоре и казнён – за амурную связь со своей венценосной патронессой. Были сплетни и о яде, некой травке, убивающей медленно и неотвратимо – якобы именно такой травкой собирался Демон-Керуб притравить государя (а государь, и верно, помер через два месяца после казни де Монэ).
Патронесса, впрочем, не унывала – спустя совсем немного времени она приблизила к себе Лёвенвольда – так хозяин, у которого издох кот, недолго думая, заводит второго, точно такого же.
Голова де Монэ, залитая спиртом, отдана была в кунсткамеру, и Лёвенвольд, по слухам, ходил смотреть на ту голову, чтобы воспитать в себе осмотрительность. И от страха лишился чувств.
За этот обморок Волынский стал ненавидеть его чуть-чуть меньше, чем прежде ненавидел.
Обер-егермейстер, благороднейший из дворян, господин чистейших кровей, князь, из благородного рода Гедеминовичей – конечно же, Артемий Волынский не следил никогда, чем заняты его слуги. И не обратил внимания на то, что один из гайдуков на его запятках – вовсе не тот человек, который приехал с ним на набережную.