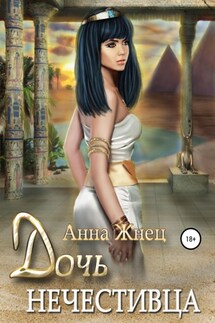Саломея - страница 7
– Вы знали, ваш-благородие! – с разыгранной обидой возгласил кат Пушнин. Эта реплика многое сказала доктору Ван Геделе об отношениях внутри тюремного коллектива – тёплое «ваш-благородие» говорило об уважении и симпатии, а интонация весёлой обиды – о присутствии даже некоторого либерализма.
– Что ж ты хочешь, Аксёль? Нумер четырнадцать к двадцатке и тройке как намертво был пришит, в тридцатом-то, – отвечал тотчас подканцелярист Кошкин, лысеющий глазастый кудряш. – А двадцатка и тройка наши. Вот и думай…
– А-а… Принято, ваш-благородие! – Кат Аксёль ударил себя по карманам полушубка. – Ставки сделаны!
Доктор уж понял, что речь ведётся о каком-то тотализаторе – ставки, нумера…
– Собачьи бои? – спросил он у Хрущова.
Тот улыбнулся – совершенно очаровательно, показав белоснежные зубы, посаженные во рту боком, как у акулы:
– Вы же подмахнули нашу подписку, доктор? Рано или поздно вы непременно разгадали бы наш маленький секрет, уж лучше я сам открою его для вас. Прямо сейчас. Мы все здесь делаем ставки, и кат, и канцеляристы, и подканцеляристы, и ваш покорный слуга. Но бьются на нашей арене псы, ну, очень хороших пород. Лучших… – асессор указал рукой в сторону реки, туда, где на льду раскатывали нарядные персоны. – Вот они. Мы пытаемся угадать, кто из персон в этом месяце прибудет к нам в гости, и все кандидаты у нас пронумерованы, для удобства.
– А где список? – тут же полюбопытствовал доктор.
– В голове. – Кат Аксёль похлопал себя по шапке. – Ведь секретность, конфиданс, пронюхает патрон – и вылетим все разом, да ещё на прощание шкуру снимут. Но если заинтересуетесь, герр Ван Геделе, я вам всё подскажу. Разложу все нумера, как пасьянс – кто и почём…
– Лучше другое подскажи, Аксёль, – перебил его асессор. – У тебя же, помнится, полдома пустует? Доктору надо. Ему пообещали квартиру, да оказалась занята – и вот он с дочкой мыкается с утра в дорожной карете.
Хрущов, конечно, несколько сгустил краски – дорожная карета была пристроена в сарае Дворцовой конторы, а дочку взялся опекать разлюбезный фон Окасек. Но будущее докторского семейства – увы, терялось в тумане.
Аксёль опять ударил ладонями по карманам – это был, наверное, его любимый жест.
– Домик славный, – сказал он, – почти на Мойке, позади лопухинского английского сада. Отдельный вход, прислуга общая – Лукерьюшка, почтеннейшая. Вдова, в летах, убирает, готовит. За дочкой посмотрит, коли надо. Не пьяница. Я так хвалю, оттого, что вижу – вы, доктор, человек дельный, а хозяин-немец всё мечтает мне соседями каких-то жонглёров подселить.
– Актёров? – переспросил доктор.
– Да бог весть, каких-то шутов и шутих из танцовальной школы – она окошками к нам прямо в окна глядит. Каждый вечер смотрю – как девки толстые на мысках прыгают. Но если хозяин узнает, что вы из нашего ведомства жилец – он вам не откажет, и жонглёрам от ворот поворот, и нам с Лукерьюшкой облегчение выйдет.
Доктор знал, что Мойка – это лучший район, оттуда рукой подать и до дворцов, и до манежа, и до самой крепости. Он согласился, мгновенно, почти с восторгом.
«Как-нибудь да устроится ваша партия…» – так ведь желал ему добрейший фон Окасек, Ижендрих Теодор.
Аксёль написал две записки – с адресом, для кучера, и вторую для прислуги. Как для Яги из русских сказок, помянутой недавно всё тем же Окасеком: прими, накорми, спать уложи.
Доктор Ван Геделе взял записки из его рук, простился со свежеобретёнными сослуживцами и бегом поспешил обратно, в приёмную Дворцовой конторы. Внутренний голос не шептал, а буквально выл ему в уши – торопись! Увы, девочка Оса, деловитая, рассудительная, всегда спокойная, имела способность притягивать к себе злоключения, как магнит – вопреки всей своей невозмутимости, даже вызывать – так неопытный некромант невольно выманивает с того света покойников.