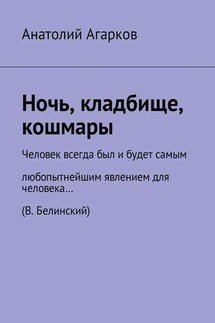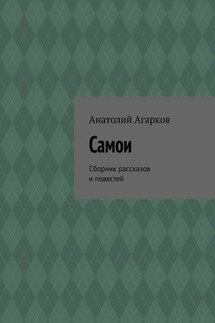Самои. Сборник рассказов и повестей - страница 66
О том ли мечталось?
Егор Шамин уважал Фёдора, рад был гостю. Допоздна засиделись за столом, изрядно осоловели.
– Ну, давай по последней, – хозяин поднял наполненный стакан. – Стременную, говорят казаки.
– Федя, я тебе в горенке постелила, – из темноты раздался Татьянин голос.
И вот он в постели, один на один со своими думами. Думать о сыне тяжело. Вынянчил его с пелёнок, дорожил, как бесценным сокровищем, в которое вкладывал всё доброе, чему научила его жизнь, что постиг в собственных исканиях, сомнениях, заблуждениях. Витя был зеркалом его души.
Воспоминания о сыне подкатили к сердцу всегда пугающую горячую боль. И не унять её никакими лекарствами. Скорбь не внемлет рассудку. Ну, конечно же, Витюшка, его гордость и надежда, жил бы и сейчас, если б не мальчишеское безрассудство, баловство, случайность. Кого теперь винить? Не досмотрел, не упредил, не уберёг….
Фёдор, на зависть многим мужикам, был крепок в выпивке. А сейчас почувствовал, как хмель догоняет его. Вдруг ощутил вокруг себя чёрную бездну, среди которой куда-то плыла, чуть покачиваясь, невесомая кровать с его потерявшим вес телом. Он силился понять, откуда взялась такая лёгкость, и, подивившись столь необычному состоянию, хотел придержать одеяло, чтобы оно не соскользнуло куда-нибудь в пустоту, но не нашёл своих рук, да и тело вдруг куда-то запропало, одна голова от него осталась, и мысли в ней.
Засыпаю, с отчётливой ясностью, спокойно подумал он и напряг память, чтобы из глубин её вызволить желанный женский образ. Ему показалось, что шевельнулась в углу чья-то лёгкая тень и растаяла сразу. «Где же ты?», – напряг он воображение. Тень будто вновь шевельнулась, приблизилась. Лицо начало угадываться, только вот черты не разобрать. Фёдор затаил дыхание, чтоб не спугнуть видение, а когда закончился воздух в груди, вздохнуть уже не нашлось сил….
Фёдор спал.
Петровка церковью, Табыньша хлебными торгами, Мордвиновка конскими бегами – у каждого села иль деревеньки есть, чем прихвастнуть. Соломатово славилось на всю округу катанием крашенных куриных яиц. Непревзойдённые мастера этой старинной исконно русской забавы, будто нарочно подобрались в соседи. Пасха для них – первейший праздник. Ушатами, говорили старики, ушатами иной раз мерили здесь выигрыш. Всем миром с любовью строили замысловатый каток.
Ещё играли в «чику» – стукали яйца острыми концами, проломивший чужую скорлупу – выигрывал.
А чем и как их только не красили – любо-дорого посмотреть! Одним словом – Пасха!
Забота председателя ТОЗа осмотреть – готов ли каток, чисто ли на улицах, убран ли зимний мусор. Шутка ли – столь народу понаедет! Может, и начальство из района. Тут, как говорится, вовремя показаться – не ударить в грязь лицом. А весна ведь только начинается: грязи этой полным-полно. В огородах, близком лесу, ещё слезятся сугробы, и у хлевов навозные кучи под самую крышу.
Идёт Дергалёв со свитой по улице, подмечает недостатки. Лицо его, коричневое от курения и пьянства, всё более темнеет. Крупный нос, нависший над тонкими губами, недовольно раздувается. Бесцветные брови от возмущения всё выше поднимают морщины на узком лбу. Маленькие глазки смотрят зло, готовы испепелить. Ну, попадёт сейчас кому-то.
Со двора общественного пастуха Петра Орлова разноголосо мычит скотина.
– Опять не кормлена, не поена, – скрипит зубами Дергалёв, – Видать хозяева в загуле. Вот подобрались бес да сатана в одну упряжку. Ну, я им сейчас….