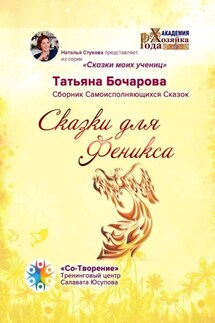Самозащита гражданских прав - страница 25
Точка зрения, согласно которой возможность самозащиты есть не более чем правомочие, основана на двух аргументах: а) защита гражданских прав третьим лицом, тем более без согласия их обладателя, противоречит автономии воли субъектов гражданского оборота; б) право на самозащиту неотчуждаемо от субъективного гражданского права, на защиту которого оно направлено[190]. Однако гражданскому праву известно, по меньшей мере, три способа защиты прав третьим лицом, не являющимся представителем обладателя права: действия в состояниях необходимой обороны и крайней необходимости, а также спасение жизни субъекта против его воли. Право на самозащиту находится вне связи с субъективными гражданскими правами, поскольку может осуществляться через действия третьих лиц и не является исключительным атрибутом субъективного права. Оно неотчуждаемо от личности участников гражданских правоотношений.
Как справедливо отмечает А. А. Фомин, право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, принадлежит каждому человеку и возникает с момента рождения человека. Оно неотчуждаемо (неотъемлемо, так как представляет собой коренное качество, имманентное человеку как биосоциальному существу) и выражает наиболее существенные возможности безопасной жизнедеятельности и развития человека, имеет непосредственный характер реализации[191]. Парадоксально, но подобная точка зрения в современной цивилистике не является общепризнанной. Формулировка ст. 14 ГК РФ («допускается самозащита гражданских прав») дает некоторым ученым основания называть право на самозащиту полномочием, делегированным государством частному лицу через правовое дозволение[192]. Ряд авторов (Ю. Г. Басин, С. В. Евдокимов. О. В. Соколова, Э. Л. Страунинг) считают самозащиту «деятельностью компетентных органов по защите права, т. е. по установлению фактических обстоятельств, применению норм права, определению способа защиты права и вынесению решения»[193]. В своих работах вышеназванные цивилисты характеризуют право на самозащиту как властные полномочия, делегированные частному лицу. Подобное воззрение на природу самозащиты представляется глубоко ошибочным по следующим основаниям.
Во-первых, признание тезиса о том, что источником права на самозащиту является дозволение государства, выраженное в норме позитивного права, означает, что возможность субъекта осуществить такое право будет поставлена в зависимость от одобрения государства – неважно, явно выраженного или подразумеваемого. Данное предположение противоречит общепризнанному взгляду на самозащиту как на естественное и неотчуждаемое право человека, первичное по отношению к любым институтам и установлениям государственной власти, поскольку, по справедливому замечанию Г. Пухты, «право создается впервые не государством, напротив, последнее уже предполагает правовое сознание, право, в охранении которого состоит главная задача государства»[194]. Естественность и необходимость защиты жизни, телесной неприкосновенности и свободы была настолько очевидна, что представители естественно-правовой школы (Г. Гроций, X. Томази, Т. Вольф) построили на ней само учение о правах личности. Позднее взгляд на самозащиту как на неотчуждаемое право человека поддержали виднейшие представители социологической школы права. В частности, Р. Иеринг замечал: «…кто не чувствует, что в том случае, когда беззастенчиво нарушают и попирают его права… кто в подобном положении не испытывает стремления защищать себя и свое полное право, тот уже человек безнадежный…»