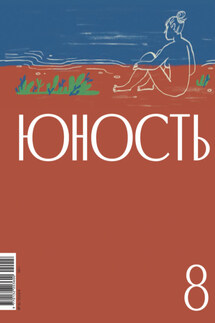Сборник рефератов по истории. 9 класс - страница 113
Одной из крупных акций нового правительства явилось назначение командующего 8-й армией Л. Г. Корнилова главнокомандующим Юго-Западным фронтом, а затем и Верховным главнокомандующим.
Именно в нем, стороннике железной дисциплины, Керенский увидел человека, способного вытравить дух «вольности» из армии. Как только Корнилов занял ключевую позицию, достаточно высокую для давления на правительство, он совместно с комиссаром Юго-Западного фронта Б. В. Савинковым предложил правительству ввести смертную казнь на фронте. Это требование в спешном порядке было поставлено на обсуждение. Заседание вел Керенский, только что вернувшийся с фронта. В самом начале заседания на его имя поступила телеграмма от Скобелева, командированного для ликвидации Тарнопольского прорыва и извещавшего главу правительства, что обстановка там катастрофическая, что командующий фронтом поставил заградительные отряды на пути отступления войск и приказал открывать огонь по бегущим солдатам. Все это так подействовало на министров, что они, по словам Церетели, «не колеблясь, голосовали за меры, предложенные Керенским», т. е. за введение смертной казни[246].
Керенский открыто стремился к режиму единоличной власти. Как утверждал В. М. Чернов, Керенский последовательно удалял из правительства «одну за другой все крупные и красочные фигуры, заменяя их все более второстепенными, несамостоятельными и безличными. Тем самым создавалась опасность „личного режима“, подверженного случайностям и даже капризам персонального умонастроения»[247].
Он обменивался телеграммами с коронованными особами европейских стран, в частности с королем Британской империи Георгом, и переживал счастливейшие минуты в своей жизни. Однако и теперь он не мог позволить себе спокойно упиваться властью. Чтобы держаться «на плаву» в качестве наднациональной фигуры, он вынужден был лавировать между различными политическими течениями. «В конце концов, – как писал В. М. Чернов, – роль его стала сводиться к балансированию между правым, национально-либеральным, и левым, социалистическим крылом правительства. Нейтрализуя то первое – вторым, то второе – первым, Керенский, казалось, видел свою миссию в этой „надпартийной“ роли… в качестве центральной оси власти»[248].
С целью укрепления своих позиций Керенский преложил созвать Государственное совещание в Москве. «Прямой контакт с представителями всех классов и групп, – уверял Керенский, – даст нам возможность почувствовать пульс страны и в то же время изложить и объяснить как нашу политику, так и стоящие перед нами проблемы»[249].
Однако эти надежды не оправдались. Выступил на совещании он неудачно, "взволнованный, он не к месту перефразировал Бисмарка и заговорил о «железе и крови». Крайне резко оценивал выступление Керенского участник совещания Н. Н. Суханов: «Премьер сыпал угрозы направо и налево… уверяя, что он, Керенский, имеет в своих руках всю власть, огромную власть, что он силен, очень силен и сокрушит, и сумеет подчинить себе всех, кто станет на пути спасения Родины и революции»[250].
Керенского явно заносило в сторону насильственных мер и жертв. «Этот человек, – отмечал П. Н. Милюков, – хотел как будто кого-то устрашить и на всех произвести впечатление силы и власти… В действительности он возбуждал только жалость»[251]. Имидж Керенского стал тускнеть.
Так называемый корниловский мятеж, рассчитанный на ликвидацию существовавшей тогда власти, Керенский использовал для расширения своих полномочий. «В момент конфликта, – писал В. М. Чернов, – существовала лишь единоличная власть министра-председателя, фактическая персональная диктатура»